Вы здесь
Странствования по ледникам. Восхождения на Мустаг-ату. В пустыню. XII - XXI.
Восхождения на Памире.
«Твердо зная лучший путь, мы избираем худший»
Достопримечательности Памира.
XIII. Странствования по ледникам.
На следующий день мы отправились вверх по северному склону Мустаг-аты и пересекли мощный гребень морены на левом берегу Ики-бель-су. Подъем был очень крут, пока мы не добрались до волнистого нагорья. Почва была здесь покрыта песком, щебнем, гальками и небольшими валунами.
По ту сторону гребня морены мы снова попали в область бассейна озера Кара-куль; по неглубокой широкой долине протекал крошечный холодный ручеек, который, вытекая из долины Контой, впадает в озеро Кара-куль.
Около этого ручейка раскинулся на высоте 4124 метра яйлак Кош-Кортюс, избранный нами исходным пунктом для странствований по ледникам. Киргизы этого аула прибыли сюда три месяца тому назад и располагали пробыть еще три. Зимние же шесть месяцев они проводят в Контой-джилге. У киргизов каждая семья или род имеет свои традиционные кишлаки и яйлаки, и отступления от традиций допускаются лишь с общего согласия.
Обитатели этого местечка принадлежат, как и большинство киргизов, обитающих в долине Сары-кол, к роду кара-теит. Аксакал их, Тугул-бай, был 96-летний живой, симпатичный старик, владеющий всеми умственными способностями.
Подвижная жизнь и постоянное пребывание на свежем воздухе укрепляют здоровье киргизов, так что они обыкновенно достигают глубокой старости. И сегодня опять лил дождь, а в горах грохотал гром. Вскоре за тем со склона донесся сильный шум.
Хозяева наши пояснили, что после сильного дождя всегда бывает такой шум, - потоки дождевой воды стремятся вниз по крутизнам. Первым нашим делом здесь было уволить обоих киргизов Hyp-Магомета и Палевана, которые хоть и были хорошими слугами, но не знали ледников и не имели яков. Вместо них мы наняли двух местных киргизов и вечером занялись осмотром их яков, единственных животных, которые могут пробираться по этим крутизнам, загроможденным моренами.
Верхом на чудесном черном яке отправился я 27 июля в сопровождении двух киргизов, знающих все ходы и выходы в ледниках, на восток к первому леднику Горумды, который предстояло исследовать. Мы ехали себе потихоньку, благодушествуя, по горному склону, спускающемуся к северу и прорезанному тремя небольшими ледяными потоками.
Направо осталась резко очерченная группа скал - отрог Мустаг-аты, а за нею виднелся небольшой ледник, имеющий в верхней своей части очень крутое падение; истоком служило незначительное фирновое поле.
Дальше на восток виднелось много подобных скалистых отрогов, гигантских диких горных массивов, между которыми прорезываются ледники, словно указывая на север пальцами. Самый большой из них называется Горумды-баши (Голова каменистого пути); питаемый им ручей, принимающий также воды из остальных ледников, протекает по резко очерченному руслу и соединяется дальше с Ики-бель-су.
Большой ледник Горумды так изобилует в нижнем своем течении щебнем и вообще продуктами выветриванья, что во многих местах его с трудом можно отличить от окружающих пород. Ледник Малый Горумды разветвляется, благодаря острову-скале, на два рукава; из них левый окаймлен параллельными боковыми моренами.
Между крайней из последних, достигающей 10-15 метров высоты, и мягким поросшим травой увалом, по которому мы ехали, бежал ручей, протекающий выше через небольшое треугольное озерко, приютившееся между увалом, моренами и ближайшими скалами Мустаг-аты.
На обратном пути нас во многих местах поражало богатство красок альпийской флоры. Цветы, произраставшие зачастую между бесплодными моренами, отличались почти кричащей роскошью красок. Чем выше мы подымались, тем ярче они становились; нет сомнения, что малое поглощение атмосферой световых лучей на этой значительной высоте имеет непосредственное благотворное влияние на растительное царство.
Еще один день был посвящен Большому Горумды. С поросшего травой увала мы пустились верхом на яках вверх по бугристым моренам, по ужасно тяжелой дороге: глыбы громоздились одна возле другой, и яки то и дело оступались в ямы, но все-таки не падали. На каждом шагу представлялся случай удивляться умению этих животных прокладывать себе путь. Надобно иметь, однако, некоторую привычку, чтобы чувствовать себя вполне спокойно в седле.
Тяжеловесное животное то балансирует по острому краю какой-нибудь глыбы, то ловко перепрыгивает через черную зияющую яму, тотчас же твердо упираясь ногами в следующую глыбу, то съезжает, оседая на задних ногах, с крутого щебневого увала, откуда двуногое существо непременно полетело бы кувырком.
Единственное, что испытывает ваше терпение при езде на яках, это флегматичность и лень животного, слишком часто находящего излишним продолжать путь; тогда приходится напоминать ему об его обязанностях палкой. К кнуту як совершенно нечувствителен, принимая удары им за ласку, на которую отвечает дружелюбным сопением. Только основательная затрещина палкой в состоянии убедить яка, что мы выехали не для забавы, и заставить его с глухим хрюканьем потрусить дальше.
Оказалось, что пояс морен с левой стороны большого ледника был гораздо шире, чем мы полагали; мы ехали, поднимаясь с одного гребня морены на другой, часа два. Наконец мы достигли небольшого моренного озера с мутно-зеленой водой; в него впадала делящаяся на несколько рукавов, весело пенящаяся речка, которая перепрыгивала по камням поверх одной из крайних морен; из нанесенного ею ила образовался целый конус, который и разделял течение речки на рукава.
От озерка мы направились к югу между двумя колоссальными грядами морен. Долина между ними расширилась мало-помалу в поросшую редкими кочками, диким ревенем и другими злаками равнину, которую справедливо называют Гульча-яйлак (Пастбище диких баранов), так как и здесь и дальше по леднику мы находили помет диких баранов.
Так как дальше морены становились все непроходимее, представляя циклопические стены, сложенные из глыб, то мы слезли с яков и пешком отправились по леднику. Миновав последнюю боковую морену, которая находится еще в периоде образования, мы вступили в область компактного твердого льда, который, однако, в начале почти всюду покрыт валунами и щебнем и лишь кое-где выступает прозрачными ледяными пирамидами.
Боковая морена ледника имеет здесь в ширину 450 метров и круто обрывается, открывая белый лед края ледника. Лед на этом краю представляет здесь настоящий хаос пирамид и конусов, не имеющих, однако, острых очертаний, а скорее округленные; верхний слой образующего их льда - пористый, влажный лед, цветом напоминающий мел и похожий в общем на снег.
Происходит это, разумеется, от разъедающего влияния на лед атмосферы и тепла; всюду слышится журчанье вод, получающихся при таянии льда и снега, пробирающихся струйками между камнями и валунами и стекающих в трещины или маленькие лужи на поверхности льда.
В леднике слышится треск и грохот, то тут, то там с шумом скатываются в зияющие провалы гальки и щебень, а издали слышится грохот падения ручья, который, пока греет солнце, получает обильное питание со всех сторон.
29 июля мы решили перенести лагерь на новое место, откуда ближе было к ледникам, идущим на запад, которые нам предстояло исследовать. Погода стояла холодная, туманная; временами подымалась вьюга. Мы достигли перевала Сарымеха (Желтый самострел), который играет важную роль в рельефе местности, образуя проход через мощный гребень отрога, идущего от Мустаг-аты на северо-запад и отделяющего ледники и ручьи северных склонов от западных.
Если бросить с перевала взгляд на мощную группу Мустаг-аты, то перед вами развертываются справа налево следующие картины. На первом плане скалистые отроги с небольшим, покрытым снегом ледником; затем идет между двумя, частью покрытыми снегом, отрогами гор еще меньший ледник, который в верхней своей части очень чист, но в нижней запружен темно-серым, мелким щебнем, так что голубой лед проглядывает только в изломах трещин.
В среднем течении преобладают поперечные трещины, в нижнем - продольные. Язык ледника опоясан колоссальными моренами с множеством гребней. Между третьим отрогом скал и той областью Мустаг-аты, по которой мы странствовали в апреле, врезывается глубокая, резко очерченная впадина. По ней движутся ледники Сарымех и Кемпир-кишлак, разделяющиеся мощной одетой снегом стеной скал. Первый из названных ледников загроможден моренами, второй чист.
Наконец, на юге виднеется перевал Улуг-рабат, а на западе хребет Сары-кол с редкими снежными полями и пятнами, частью окутанный красивыми, белыми облаками, резко выступающими на фоне сине-стального холодного неба Памира.
Склон перевала очень крут, и мы ехали по руслу ручья, питаемого ледником Сарымех и весело прыгающего, образуя водопады, по своему каменистому ложу. Затем мы перешли через пять ручейков, питаемых тающим снегом, между которыми шли к долине Сары-кол длинные, низкие увалы, продолжение горных отрогов, расходящихся подобно радиусам и разделяющих русла ледников.
Двое из людей, отправившихся вперед с караваном, уже разбили новый лагерь, несколько пониже того места, где мы стояли в апреле, на сочном, хорошо орошенном лугу, представлявшем отличное пастбище для наших яков.
Вечером пошел сильный снег, и на следующее утро горы были одеты тонким снежным покровом. Киргизы сказали, что зима уже вступила в горы и что теперь со дня на день будет холоднее. 30 июля и настала настоящая зима. Весь день шел снег; время от времени вьюга окутывала всю окрестность густыми облаками мелкой снежной пыли, так что не видно было и признака гор или лежащей в глубине долины.
Было темно холодно и неприятно, словом, у Ямбулака-баши природа встретила нас так же негостеприимно, как и в апреле Нечего было и думать предпринимать в этот день какие-либо экскурсии - в нескольких шагах все уже было застлано снежной мглой.
Пришлось прибегнуть к зимнему облачению, достать из тюков тулупы, меховые куртки, шапки и валенки. Чтобы избавиться от лишней возни, мы захватили с собой лишь маленькую юрту, где я и провел весь день за черчением и писаньем, согреваясь время от времени стаканом чаю; люди же, укутавшись в тулупы, сидели на корточках, в защите от ветра, около ближайшей гнейсовой глыбы и слушали Моллу Ислама, читавшего вслух из старой книжки со сказками.
Когда вьюга усилилась, я впустил их в юрту, и чтение продолжалось.
31 июля погода была сносная, и мы могли предпринять экскурсию на ледник Ямбулак. Поверхность его теперь вся белела от покрывавшего ее рыхлого влажного снега. Нам попались два ледниковых стола и широкая и глубокая поперечная трещина; она чуть было не преградила нам дальнейшего пути, да, к счастью, местами была достаточно узка, так что можно было перейти через нее. В боках трещины лед отливал чистейшей лазурью, а на дне ее сугробами лежал снег.
Когда мы прошли по леднику 400 метров, что по нашим определениям составляло третью часть всей его ширины, нам преградило путь непроходимое место, настоящий хаос ледяных конусов, пирамид, трещин и ручейков, которые размывали себе глубокие русла под коварными ледяными сводами.
Если взглянуть с этого пункта вверх на ворота, образуемые отвесными стенами скал, т.е. на восток, то окажется, что ледник замкнут с трех сторон, а именно с севера, с юга и запада, - спереди и с обоих боков. По выходе из ущелья он спускается со значительной высоты, затем ползет по выпуклой поверхности и поэтому в нижнем своем течении весь перекороблен и изрезан бесчисленными поперечными трещинами.
Вид ледника был на этот раз совершенно иной, нежели в апреле месяце. Трещины казались не так глубоки, так как отчасти были наполнены обрушившимися продуктами выветриванья, края их не так остры, а линии изломов в общем более мягки и округленны. Словом, ясно было, что ледник находится в периоде усиленной деятельности, причем обычные факторы - атмосфера и вода стремились сгладить резкие формы и заполнить углубления.
Мы направились вдоль правой береговой морены к мысу ледника, но не успели дойти туда, как поднялся сильный ветер с юга и разразился хлеставший нам прямо в лицо град, который принудил нас искать убежища под нависшей глыбой. Град, как обыкновенно, сопровождался ливнем, и только спустя час удалось нам продолжать путь.
Вечером сильный град принялся хлестать горные склоны; град так барабанил по кровле юрты, что принудил нас заткнуть дымовое отверстие и загасить костер. Джолдаш, неусыпно стороживший вход в юрту, жалобно выл на морозе. Непогода не унималась и весь следующий день 1 августа, но большую часть дня шел дождь, и снежный покров исчез; выйти, однако, так и не удалось, и я целый день просидел дома, работая над картами.
2 августа посвятили ледникам Кемпир-кишлак. Предстояло взобраться на большой ледник Кемпир-кишлак. Мы направились по моренам, идущим вдоль левого его берега. Подъем был так крут, что пришлось сойти с яков и продолжать путь пешком; так мы достигли скалы из кристаллического сланца, находящейся у левого края ледниковых ворот.
Небо было все затянуто облаками; опять пошел град, но ему не удалось выбелить почву, так как градины с треском скатывались в бесчисленные трещины и впадины в морене; когда же град прекратился, мокрые камни быстро высохли в сухом воздухе.
Мыс ледника, вдающийся в долину, напоминает формой длинную, узкую, плоскую ложку, повернутую ручкой книзу и всюду окаймленную моренами. Поверхность ледника на всем его протяжении в общем довольно ровная, плоско-волнистая. Здесь не видно было поперечных трещин, но, напротив, несколько очень длинных и узких продольных, тянувшихся посредине мыса, весь же левый берег ледника был точно в зазубринах от краевых трещин.
Сойдя на лед, мы могли воочию убедиться в том, как образуются боковые морены. Стоило сделать один шаг, чтобы скатиться на двадцать по рыхлым продуктам выветриванья, которые образуют здесь оползни. Как только мы миновали краевые трещины, открылся удобный путь по льду, покрытому толстым слоем снега. Последний зато скрывал продольные трещины, которых мы и остерегались, ощупывая путь палками.
3 августа мы снова отправились на ледник Ямбулак, чтобы поставить измерительные шесты, по которым мы, спустя известный срок, могли определить скорость поступательного движения ледникам Нелегко было добыть шесты, годные для такой цели. Во всей Сарыкольской долине не было других деревьев, кроме купы кривых чахлых березок, около Каинды-мазара, которых к тому же, разумеется, нельзя было трогать, так как они осеняли могилу святого.
Наконец Иехим-баю удалось добыть связку жердей, какие употребляются для остова кровли юрты. Обычный град разразился около 4 часов дня. Сначала гонимые северным ветром легкие облачка неслись, словно пар, над долиной, глубоко под нашими ногами, затем они быстро поднялись по склонам гор и сразу окутали нас густой пеленой. Стало холодно и темно, град хлестал о лед; оставалось только искать защиты от ветра за высокой ледяной пирамидой и пережидать. Поздно, усталые и замерзшие, вернулись мы в лагерь.
Следующий день, для разнообразия, подарил нас прекрасной погодой, и мы совершили чудесную экскурсию на ледник Кемпир-кишлак - нам осталось еще исследовать его правый берег. Оказалось, что от ледника отделяется мощный рукав, который образует высокий (30 метров), почти отвесный ледяной утес, отличающийся чистотой и прозрачностью.
Около устья ледника зиял черный грот в 4 метра высотой и 3 метра глубиной; происхождением он был, вероятно, обязан более быстрому нагреванию здесь поверхности. С края ледника низвергались четыре ручейка из растаявшего снега и множество мелких струек, рассыпавшихся прелестными каскадами. Самый крупный из них имел 20 метров высоты, причем так врезался в лед, что падал не с самой вершины мыса.
Другой врезался в лед на целых 6 метров, и так как русло его во льду было уже затянуто сверху тонкой ледяной корой, то похоже было, что струя бьет из отверстия в ровной стене. Мы обогнули ледниковый мыс и стали подыматься по правому его берегу.
Недалеко от места, где один из каскадов с шумом ниспадал в лужу, образованную им же самим около подошвы ледника, Кемпир-кишлак подходит так близко к морене своего соседа, Сарымеха, что еле можно пробраться сквозь отделяющий их друг от друга узкий проход.
XIV. Восхождения на Мустаг-ату.
Во время пребывания на этой значительной высоте, уступавшей немногим из альпийских вершин, мы все время стерегли удобный случай поймать Мустаг-ату врасплох и взобраться на нее. Но погода все ставила нам препятствия.
о шел снег, то град, то дул пронизывающий северный ветер, отнимавший всякую охоту стремиться в высшие сферы, где ветер взвивал снег столбом. Бывало, что солнце улыбалось на минуту с ясного неба, но в следующую погода портилась и расстраивала все наши планы. Бывало несколько раз, что мы уже навьючивали яков, делили ручной багаж между носильщиками и готовились выступать, как вдруг начинался ветер и позволял нам совершить, чтобы день не совсем пропал даром, лишь небольшую экскурсию на ледники.
Так продолжалось до 5 августа. Мы уже успели убедиться, что на этой высоте зима - ранний гость и что времени у нас в запасе немного, и поэтому решили на следующий день быть готовыми во что бы то ни стало отправиться в поход.
5 августа посвятили отдыху, и в юрте царствовала торжественная тишина. Наши яки за последнее время сильно изнурились, и пришлось отправить их вместе с их хозяевами обратно, а Ислам добыл нескольких свежих отличных животных. Седла, палки с железными наконечниками, канаты, веревки, продовольствие, приборы - все приготовлено с вечера.
Погода весь день стояла хорошая, но в сумерки начался обычный град и ветер. Вершина Мустаг-аты, только что ослепительно сиявшая своим снежным венцом, окуталась густыми облаками, а вечером духи ветра начали бешеный хоровод вокруг одного из высочайших тронов божества ветра.
Оставив Ислам-бая сторожить лагерь, я выступил 6 августа с Иехим-баем, Моллой Исламом, тремя другими киргизами и семью превосходными яками. День выдался чудесный, совершенно ясный, так что от самой подошвы видны были все очертания Мустаг-аты, до мельчайших подробностей, а самая вершина казалась близехонько; склоны заслоняли выступы и отроги, что и вводило в заблуждение. В воздухе не шелохнулось, на небе не было ни единого облачка.
В 8 часов мы были на высоте Монблана и немного спустя достигли на высоте 4950 метров снеговой линии. Вначале снег попадался небольшими клоками между кучами щебня, затем разостлался сплошным ковром, из-под которого кое-где проглядывали отдельные камни.
Снег был мелкозернистый и плотный, но без наста. Только когда мы поднялись еще метров на 200 выше, снеговой покров оказался покрытым тонкой, твердой корой; мягкая кожаная обувь моих людей не оставляла на ней никаких следов; наст только слегка похрустывал, но животные ни разу не поскользнулись.
Чем выше мы поднимались, тем снег становился глубже, но особенно больших сугробов еще не встречалось. Толщина снегового покрова от нескольких сантиметров возросла до одного дециметра, а на самой высшей, достигнутой пока нами точке пала опять до 35 сантиметров. Причинами, мешающими образованию больших сугробов, являются обычный здесь сильный ветер, усиленное испарение и легко обнажающаяся ветрами куполовидная форма рельефа.
Снег сверкал на солнце тысячами искр, и я, несмотря на консервы [Здесь "консервы" - специальный термин, обозначает очки для защиты глаз от яркого света, пыли, ветра и т. п. -- Прим. ред.] с двойными стеклами, сильно страдал от этого блеска, разлитого повсюду кругом.
Люди мои, у которых совсем не было очков, жаловались, что у них все вертится, а временами и совсем темнеет в глазах. Приходилось все чаще и чаще делать передышку. Я, пользуясь остановками, делал наброски, производил измерения с компасом и ориентировался. Мы следовали непосредственно по краю высокой скалистой стены, откуда нам открывался чудный вид на весь ледник в глубине.
Выше, в ущелье, где оба его скалистые бока постепенно понижаются (по сравнению с поверхностью ледника), несколько расходятся и в конце концов сливаются с округленным гребнем, соединяющим обе высочайшие вершины группы Мустаг-ата, ясно виднелось фирновое поле.
На высоте 5100 метров Молла Ислам и двое других киргизов оставили своих яков, уверяя, что лучше идти пешком. Они не прошли, однако, более 200 метров, как в изнеможении, жалуясь на сильную головную боль, упали на снег и заснули мертвым сном.
Я продолжал путь с двумя остальными киргизами и двумя яками. Моего яка постоянно вел один из людей, которые чередовались между собой; свободный из них ехал на другом яке. Они также жаловались на страшную головную боль и почти задыхались. Я чувствовал себя хорошо, если не считать ломоты в голове, которая все усиливалась по мере подъема; одышку же я чувствовал, только когда слезал с яка и принимался за наблюдения.
Когда надо было опять влезть на седло, я готов был задохнуться от этого небольшого усилия, и у меня начиналось сильнейшее сердцебиение. Зато движения яка, становившегося все упрямее и подвигавшегося все с большими усилиями, не причиняли мне никаких неприятных ощущений.
На менее значительных высотах Демавенда я страдал гораздо больше, но туда я взбирался пешком, а все дело в том, чтобы по возможности меньше утомлять себя и ехать верхом. Если это возможно, то даже очень значительные высоты достигаются без особенно болезненных ощущений. Вот и теперь все киргизы чувствовали себя плохо, некоторые заявляли даже, что того и гляди умрут, я же все время чувствовал себя сравнительно бодрым.
Люди мои не послушались моего совета, оставили своих яков и утомили себя карабканьем по крутизнам, так что уже не в силах были бороться с расслабляющим влиянием разреженного воздуха. Между тем поднялся свежий ветер, мелкий снег закрутило вихрями, небо покрылось тучами.
Мы все так утомились, что решили сделать привал. Достали хлеб, чай, топливо, чтобы развести костер, но стоило нам взглянуть на еду, чтобы нас затошнило; так никто ничего и не взял в рот. Нас только мучила жажда, и мы все глотали снег; даже яки проглатывали большие комки.
Вид с высоты 6300 метров был поистине восхитительным и величественным. Нам открывалось, через хребет Сары-кол, все пространство до самого Заалайского хребта и живописных снеговых гор Мургаба. Ниоткуда не могли быть лучше видны ледяные потоки и выпаханные ими глубокие борозды в горных склонах. Мощные потоки ледников Ямбулака и Чум-кар-кашки идут параллельно до самого ложа долины, покрытого стально-серыми отложениями этих потоков.
Вверху виднелись еще четыре отрога скал, а за ними северная вершина Мустаг-ата, казавшаяся нам совсем близехонько и охваченная до самой высшей точки фирновым кольцом, представлявшимся нам в перспективе плоским.
Мы стали держать военный совет. День клонился к концу, и становилось холодно; киргизы были так изнурены, что не могли идти дальше; яки пыхтели, высунув языки; мы находились как раз у подошвы куполовидной возвышенности, которая постепенно переходит в плоскую макушку вершины. На склонах ее снег лежал еще более толстыми плотными слоями, а трещины и оползни указывали на возможность образования лавин.
Киргизы предостерегали от восхождения по этим крутым, готовым обрушиться снежным склонам, где яки своей тяжестью легко могли произвести обвал, и мы тогда, скорее, чем желательно, очутились бы внизу, но в довольно жалком виде. Люди мои говорили, что внизу из долины видали иногда такие обвалы на этих склонах.
С грустью решился я вернуться, и мы быстро заскользили вниз по старым своим следам, переходя все в более теплые и мягкие слои воздуха, подобрав по пути отставших людей и яков, которые так и не двигались с того места, где мы их оставили, и благополучно достигли лагеря около семи часов вечера. В лагере уже ожидало нас несколько друзей-киргизов с приношениями съестных припасов.
Помимо того что эта экскурсия помогла нам отлично ориентироваться, дала возможность произвести много наблюдений, она научила нас, что вследствие значительности самого расстояния, отделяющего нас от северной вершины группы Мустаг-аты, однодневный срок оказывается недостаточным для ее достижения и что единственно верным средством будет разделить экскурсию на два дневных перехода, переночевать в юрте первую ночь на значительной высоте, а на следующее утро со свежими яками и легким багажом продолжать путь до вершины.
Киргизы и Ислам-бай вполне одобрили этот план и готовы были при первом удобном случае сделать такую попытку. Нам, однако, предстояло еще исследовать три больших ледника дальше к югу, и мы 8 августа перенесли стоянку к Терген-булаку.
Поблизости находился аул (или кочевье) из четырех юрт. Старшина, бек Тогда-бай, славный таджик важного вида, тотчас же явился с визитом и сообщил, между прочим, что аул имеет всего 25 жителей, что одна юрта принадлежит семейству таджиков (арийское племя, говорящее на персидском языке), а три остальные найман-киргизам и что они круглый год проводят в этой местности, лишь меняя яйлаки, - где поживут месяц, где два.
Зимой здесь бывает ужасно холодно, снегу выпадает много, и овцам трудно бывает находить подножный корм. После продолжительного снега накопившиеся громадные запасы его сползают по бокам гор в виде лавин, увлекая за собой камни и щебень.
Симпатичный старик принес нам барана и кувшин молока и выразил полную готовность доставить нам все нужное, жалея лишь о том, что по причине своих преклонных лет не может сопровождать нас в наших экскурсиях в горы. Он тоже рассказал нам старинное предание о восходившем на Мустаг-ату шейхе, видевшем там белобородого старца и белого верблюда и принесшем оттуда большой железный котел, который теперь хранится в мазаре в долине Шинди.
Мы долго беседовали о предполагавшихся новых экскурсиях, и старик отправился в обратный путь, в свое одинокое жилище среди морен, только поздно вечером.
9 августа мы исследовали левую сторону ледника Чал-тумака. Поднявшись по моренам, мы достигли местечка на склоне горы, откуда открылся чудесный вид на правильную структуру ледника. Он весь покрыт сетью трещин, частью поперечных, частью продольных, образовавших целую систему ледяных пирамид.
Моренные камни и глыбы падают в трещины, которые походят на черные канавки и делают ледник похожим на решето. Назад мы пробирались по ложбине между ледяными пирамидами и боковой мореной; по ложбине текла, словно масло по намыленному металлическому желобу, горная речка, подмывая основания некоторых пирамид, которые и угрожают ежеминутно рухнуть.
В заключение нашей экскурсии мы посетили бекаТогда-бая, который созвал почетнейших обитателей аула и предложил нам дастархан. Аул расположен на берегу ледниковой речки; кругом расстилались луга, где паслись яки, верблюды и лошади бека. Женщины доили овец. Некоторые из таджикских женщин были очень красивы и имели бойкий, веселый вид; одеты они были очень живописно, но небрежно и частенько подходили к юрте поглядеть в щелочку на чужестранца.
10 августа мы отправились вверх по ручью, на берегу которого был разбит наш лагерь. Яки осторожно и лениво подвигались по глубокой ложбине ручья между моренами и колоссальным увалом из щебня, образовавшимся около подножья находящейся к северу от него отвесной стены скалы. На вершине ее лежал массивной броней лед, который местами спускался с нее, образуя круто обрывавшийся край с бахромой сталактитов, длиной до 10 метров.
Непосредственно из-под самого ледяного покрова сбегают с острого выступа скалы четыре больших и несколько маленьких каскадов; эти хрустально прозрачные, сверкающие струи падают с такой высоты, что силой ветра обращаются в мелкую густую водяную пыль, отливающую на солнце цветами радуги. Более сильными порывами ветра пыль прибивается к стене скалы, по которой вода и стекает вниз, а затем частью по щебневому увалу, частью под ним пробирается тысячью струек в реку.
Ледник Терген-булак спускается тремя потоками. Средний поток гораздо больше и толще двух боковых и господствует над местностью. Справа впадает в него поток поменьше, который вырыл себе такое глубокое ложе, что ледяные массы главного потока значительно возвышаются над ним.
Между этими двумя потоками находится мощный кряж, и в углу, образованном ими, под крайним скалистым выступом этого кряжа находится воронкообразное углубление, наподобие наблюдаемых в речных руслах за мостовыми быками.
Слева от ледяного покрова отделяется небольшой отрог из светлого, чистого льда, втиснутый узким клином между стеной скалы и главным потоком. В ледяных массах слышится треск и грохот, камни и глыбы с шумом проваливаются в трещины. Повсюду слышится журчание струек; верхний слой льда порист и хрупок, - все говорит, что и этот ледник находится в периоде живейшей деятельности.
Спускаясь с горы, мы видели двух больших серых волков, кинувшихся бежать по моренам. Волки здесь обычное явление и иногда режут молодых яков. Бек Тогда-бай умно поэтому сделал, приставив к своим стадам стаю злых собак. Этот почтенный старик доставил нам маленькую походную юрту и другие необходимые вещи для двухдневной экспедиции на Мустаг-ату, на которую мы намеревались взойти 11 августа.
Ранним утром, когда мы снова готовились взять великана приступом, Мустаг-ата была еще окутана ночным туманом; минимальный термометр показывал - 4,8°. Погода выдалась замечательно благоприятная: на небе не было ни единого облачка, и слабый ветерок скоро улегся совсем. Нам предстояло подняться на высоту приблизительно 6000 метров, ночевать там, а на следующий день продолжать подъем и достигнуть возможно большей высоты.
Поэтому мы брали с собой маленькую юрту, четыре больших связки терескена для топлива, шесты, веревки, топоры, тулупы и продовольствие; все это было навьючено на девять сильных яков. Я решил как можно меньше утомлять себя, чтобы сберечь свои силы к следующему дню, когда предстоял настоящий подъем с легким багажом и всего с тремя людьми.
Поэтому я с самого начала стал изображать собой как бы вьюк на моем яке: один из киргизов, верхом или пешком, все время тащил его вперед за веревку, продетую в ноздри, а другой понукал его сзади палкой всякий раз, как животное находило мои стремления слишком высокими и останавливалось, чтобы поразмыслить - к чему, собственно, ведет это вечное карабканье.
Таким образом, я не тратил сил даже на понуканье яка, что вообще довольно-таки утомительно. Наш маленький караван медленно, упорно подымался вверх, делая сотни извилин по склону горы вдоль левого бока ледника Чал-тумак; склон этот был не слишком крут. Яки пыхтели и сопели, высунув свои синие языки.
Это был тот же самый покрытый щебнем кряж, по которому мы шли 9 августа, и на том месте, где мы тогда остановились, мы сделали теперь первый роздых. Сейчас к югу от этого места ледяной покров образует выступ с крутыми боками; у подножия его обрушившиеся куски льда смерзлись в длинную ледяную глыбу. В час дня мы достигли приблизительно 5200 метров высоты. Снег был рыхлый, мокрый, таявший на солнце, так что почва местами была сыра.
Наконец голый кряж сузился в настоящий клин, уходивший под ледяной покров. Последний не обрывается здесь круто, и самый край его настолько тонок, что мы без труда взобрались на него и двинулись по льду, запорошенному снегом. Яки сначала скользили и спотыкались, но скоро верхний снеговой покров стал настолько толст, что они шли по нему так же твердо и ровно, как недавно по щебню.
Вдруг, справа, с другой стороны ледника Чал-тумак, послышался оглушительный грохот. Это оторвалась от нависшего здесь края ледяного покрова глыба и покатилась вниз. Громадная голубоватая ледяная глыба разбилась о выступ скалы в мелкий белый порошок и, как мукой, обсыпала поверхность ледника.
В воздухе долго стоял гул, словно после удара близкого грома; эхо повторяло его на сотни голосов между отвесными стенами скал, пока наконец не замерли последние отголоски и не наступила обычная тишина. Но легкая ледяная игольчатая пыль долго еще носилась в воздухе.
Нам представился прекрасный случай наблюдать за деятельностью этого маленького ледника. Тяжелый ледяной покров сползает с краев скал, раскалывается по трещинам, и мощные глыбы время от времени рушатся вниз, чтобы, как мы сейчас видели, превратиться в ледяную пыль и посыпать поверхность главного ледяного потока, на котором, таким образом, возникает ледник-паразит.
Перед нами и над нами расстилалась пустынная, ослепительно белая ледяная поверхность.
Мы знали, что ледяная кора нас сдержит, но все-таки было жутко вступать в эту неведомую, никогда не знавшую человеческих следов область, где, может быть, ожидало нас много опасностей, свойственных этому царству льда.
Скоро мы наткнулись на систему поперечных трещин; ширина их большей частью, однако, не превышала одного фута. Иной раз мы давали крюку, чтобы обойти их, - обыкновенно они суживались клином в обе стороны, иногда же переходили через них по снежным мостам, а иногда яки прямо переступали через них. Киргизы настаивали, чтобы мы шли по следам коз; мы так и сделали; часто снежные мосты выдерживали, но часто также снег, выдержавший легких, быстроногих коз, проваливался под тяжелой ступней яка.
Ледяной покров был весь в буграх и холмах, образуя волнистую поверхность. Мы то и дело то спускались, то подымались, и вот как раз когда мы находились на сравнительно плоской макушке одного такого холма, як Моллы Ислама, которого последний вел во главе каравана, вдруг упал и провалился.
Из-под снега торчали только правая задняя нога, рога и связка терескена. Як провалился в совершенно занесенную сверху снегом трещину в метр ширины и висел над зияющей пропастью, сопя и жалобно мыча; полная неподвижность его показывала, что он вполне сознавал опасность своего положения, так как, шевельнись он только, он бы ушел совсем в суживавшуюся книзу трещину.
Произошла долгая остановка. С величайшими предосторожностями киргизы обмотали вокруг рогов и туловища яка веревки, привязали их к остальным якам, затем люди ухватились за веревки и принялись тянуть изо всех сил; едва-едва удалось вытащить тяжелое животное.
Немного дальше повторилось то же самое с той лишь разницей, что яку удалось вовремя удержаться и выкарабкаться самому. Затем провалился один из киргизов и повис над трещиной на руках. Тут уж мы сочли за лучшее остановиться и произвести предварительно рекогносцировку по этому изрезанному предательскими трещинами льду.
Оказалось, что вся макушка холма, на которой мы находились, была покрыта целой сетью трещин, идущих по всем направлениям и преграждающим нам путь на все стороны. Хуже всего было то, что мы открыли трещину в 3 - 4 метров шириной и 6 метров глубиной; на дне ее были нагромождены большие сугробы снега.
Мы осторожно заглянули в глубь трещины и увидали, что она идет в обе стороны, подобно громадному рву, на севере достигает ложа ледника Чал-тумака, а на востоке подошвы одного из высочайших ледяных выступов.
Перейти через нее или обойти ее было невозможно. Мы остановились и стали держать совет. День клонился к вечеру, и я еще раз должен был решиться отступить. Пытаться совершить на другой день от этого места подъем на Мустаг-ату было очевидно невозможно без особых вспомогательных снарядов, а их-то у нас и не имелось.
Над нами высилась высочайшая из вершин горной группы, по крутым склонам которой сползал фирн, частью чтобы образовать общее поле, питающее ледники, частью чтоб нагромоздиться на уступах и неровностях настоящими торосами, стенами, башнями и кубами прозрачного льда.
Пробраться через этот хаос не было, как казалось, никакой возможности. Таким образом, на этот раз мы достигли только 5820 метров абсолютной высоты, тем не менее восхождение наше дало важные результаты для картографии.
Отсюда нам были превосходно видны высшие пояса, округленный купол горы и ледяной покров, который трудно разглядеть снизу; отсюда мы могли проследить отношения этого ледяного покрова к ледникам. Последние, являющиеся на самом деле колоссальными ледяными потоками, кажутся с этих высот ничтожными белыми полосками.
Воскресенье 12 августа мы посвятили отдыху. Я, по обыкновению, прочел утром главу из Евангелия, а затем штудировал "Ледниковедение" Гейма. Погода мало располагала к экскурсиям; в воздухе стоял туман, дул сильный ветер, и гора была окутана густыми облаками.
Всех своих людей я отпустил в гости к беку Тогда-баю. Дома оставались только я с Джолдашем, наслаждаясь нашим мирным отдыхом, который кажется еще слаще, когда за дверями юрты воет буря и ветер свистит между глыбами морен.
Среди этих пустынных ледников, где один день в общем был похож на другой, я никогда, однако, не страдал от одиночества. Да и некогда было думать об этом; я был занят по горло, и единственное, что мучило меня, была мысль, что лето быстро уходит и что я едва ли успею выполнить всю намеченную программу.
Дни казались мне слишком короткими Встав поутру и одевшись, я прежде всего проверял метеорологические приборы, а Ислам-бай в это время приготовлял поднос с утренним завтраком, который обыкновенно состоял все из одних и тех же изысканных блюд: шашлыка, рисового пудинга и хлеба; последний мы или доставали у киргизов, или пекли сами. Шашлык мне вскоре до того надоел, что мне глядеть на него было тошно, и я питался одним рисом да хлебом.
Таким меню предстояло мне довольствоваться еще два с половиной года, вплоть до того, как я добрался до Пекина. Иногда я вскрывал какую-нибудь коробку с консервами, но запас их был у меня незначителен, а времени оставалось еще много, почему и приходилось расходовать эти деликатесы поэкономнее. К счастью, рис и чай мне не надоедали, и я чувствовал себя отлично на этой простой диете. Чай всегда подавался с яковым молоком или сливками, на которые, к нашему благополучию, нечего было скупиться.
Табаку у меня был взят из Ташкента обильный запас; сигары составляли наименьшую его часть; главным образом взят был табак для набивания трубок и папирос. Признаюсь, я плохо бы чувствовал себя, не будь со мной во время странствований по ледникам моей верной спутницы-трубочки.
В те дни, когда погода не выпускала нас из дому, у меня всегда находилось довольно домашней работы над картами, набросками, записками и проч. Юрта внутри была так уютна, что я чувствовал себя совершенно "в своем углу". Посреди горел прямо на полу небольшой костер из терескена и якового помета; остальная часть пола была устлана войлоками. Против входа стояла моя постель, состоящая из двух палок, прикрепленных концами к ременным ушкам ягданов, и натянутой между палками парусины.
Вдоль стен был расставлен остальной багаж: ящики, мешки с продовольствием, посуда, оружие, седла, приборы и проч. Ел я только два раза вдень. Вечером подавалось то же самое, что и утром. Улегшись в постель, я обыкновенно читал еще несколько времени при свете стеариновой свечи какой-нибудь номер шведской газеты, старой-престарой и тем не менее казавшейся мне в высшей степени интересной.
Каждый столбец в ней приковывал мое внимание. Затем я засыпал и спал, словно убитый - как бы там ни бушевал ветер и ни выл по волкам Джолдаш - вплоть до утра, когда меня будил Ислам-бай.
XV. Лунная ночь на высоте 6300 метров над уровнем моря.
Я надеюсь, что не слишком утомляю читателя этим, может быть, несколько однообразным описанием ледников. Мне казалось, что я обязан развить эту тему поподробнее, так как дело идет здесь о совершенно неизвестной области, где каждый шаг открывал что-нибудь новое. Только ледник Ямбулак был однажды в 1889 г. посещен геологом Богдановичем. Мне же хотелось исследовать и нанести на карту все ледники Мустаг-аты.
13 августа было посвящено исследованию ледника Чум-кар-кашка. На льду здесь множество луж, достигающих метра в диаметре, имеющих несколько дециметров глубины и даже днем затянутых тонкой ледяной корой. В этих лужах легко поэтому принять ножную ванну.
Мы поставили здесь измерительные шесты, чтобы определить со временем скорость поступательного движения ледника. 14 августа мы двинулись вверх вдоль левой береговой морены ледника Терген-булака, а затем по несомой ледником боковой морене, по которой потом и спустились обратно к конечной.
Терген-булак работал вовсю и трещал по всем швам. Треск и выстрелы не умолкали, большие глыбы со страшным грохотом обрушивались в трещины, время от времени образовывались новые расщелины, а между ледником и боковыми моренами бежали, пенясь, резвые, обильные водой ручейки.
Мы прямо запутались в этом лабиринте моренных увалов, ледяных пирамид и ущелий. Пересекши морену, мы должны были пересечь среднее течение ледника, и началось полное приключений странствование в сумерках, быстро сменившихся темнотой. Дорога стала такая тяжелая, что мы предпочли спешиться и принялись перепрыгивать через трещины и ручьи.
Киргизы гнали яков перед собой, и любо было смотреть, с какой ловкостью те карабкались по крутым ледяным уступам, высотой в метр; нам, чтобы взобраться на них, приходилось вырубать во льду ступеньки. Наконец мы достигли правой боковой морены; тут мы нашли на льду много маленьких озер.
Обе боковые морены заходят за середину ледяного потока, так как прикрываемый ими лед, защищенный от растопляющих лучей солнца, дольше не тает. Внизу у края ледника нам предстояло пересечь целый ряд старых конечных морен, напоминающих крепостные валы и прорезанных рекой.
Стало темно, и мне приходилось следовать по пятам за одним из киргизов, чтобы видеть, куда ступаю. Другой киргиз подгонял яков, а третий разыскивал одного из них, отставшего и заблудившегося между моренами; нашли его, однако, только на следующий день.
После многих мытарств и усилий мы таки счастливо добрались до лагеря. Между прочим, в летнюю программу входила и экскурсия на Памир, и так как теперь некоторые продукты продовольствия, главным образом чай и сахар, подходили к концу, то мы и решили соединить научную экскурсию с фуражировкой и заглянуть на Памирский пост.
На такую экскурсию должно было пойти не меньше месяца, так что раньше нам не удалось бы вернуться назад к Мустаг-ате, поэтому мы и задумали предварительно сделать еще одну попытку достигнуть вершины в два дневных перехода.
15 августа мы отправились по хорошо знакомому пути к месту старой нашей стоянки и, прибыв туда, несмотря на сильный град и ветер, занялись приготовлениями к выступлению на следующее утро.
Взяв с собой все нужное на два дня, десять яков и шестерых киргизов, не считая моего верного Ислам-бая, я 16 августа в четвертый раз попытался взойти на Мустаг-ату, по тому же склону, по которому мы поднимались 18 апреля и 6 августа. Достигнув снеговой линии, мы отправились по старым нашим следам, служившим нам некоторой гарантией против несчастных случаев. Тропу было ясно видно.
Она шла зигзагами круто вверх, по краю правой стены ледникового ущелья. Так как снеговой покров был вначале тонок, то наши старые следы обратились в круглые проталины, в которых проглядывал щебень. Повыше каждый след был затянут голубовато-зеленым ледком, а еще выше последний был запорошен снежной пылью. В некоторых местах и тропа оказывалась заметенной, но различить ее все-таки было можно. Во все эти десять дней снегу здесь, следовательно, не выпадало.
С Ислам-баем и одним из киргизов достиг я того места, где мы остановились 6 августа. Остальные потихоньку тащились сзади с Иехим-баем во главе. Когда все были в сборе, мы посоветовались и решили заночевать тут, около выглядывавших из снега небольших каменистых островков. Яков привязали к сланцевым глыбам, и затем киргизы расчистили, насколько было возможно, от щебня, повсюду покрытого снегом, местечко для юрты.
Последняя была очень миниатюрна; места для спанья в ней хватало всего на троих, дымового отверстия вовсе не было, конусообразный остов ее состоял попросту из жердей, связанных верхними концами вместе.
Как мы ни старались уровнять лопатами почву, юрта все-таки очутилась на покатости, и ее пришлось прикрепить арканами к двум глыбам сланца. Вечером в течение часа дул слабый ветер, время от времени обдававший юрту облаками крутящейся снежной пыли, набивавшейся во все щели и отверстия нашего убежища.
Киргизы поэтому обнесли юрту валом из снега. Сначала мы чувствовали себя хорошо; мы развели большой костер из терескена и якового помета; огонь отлично согрел нас, и наши застывшие члены отошли. Зато юрта наполнилась удушливым дымом, который ел глаза и очень медленно выходил в открытое входное отверстие. Снег на полу в юрте растаял, но, когда костер погас, все покрылось ледяной корой.
Киргизы начали жаловаться на головную боль, и двое стали проситься назад; я разрешил им это тем охотнее, что они, очевидно, не годились для дальнейшего трудного странствования. Из других болезненных симптомов надо отметить неумолчный звон в ушах, некоторую глухоту, ускоренный пульс, понижение температуры тела, полную бессонницу (вызванную, вероятно, головной болью, которая под утро стала нестерпимой) и, наконец, приступы одышки.
Киргизы стонали всю ночь. Тулупы казались страшно тяжелыми, дышать в лежачем положении становилось затруднительно, сердце билось неровными сильными толчками. На чай и хлеб охотников не нашлось, и, когда нас сразу охватил мрак ночи, в киргизах стало заметно глухое неудовольствие. Они ведь не больше моего привыкли проводить ночи на высоте 20 000 футов, в 21 раз превосходящей высоту Эйфелевой башни.
Более величественного места стоянки у меня, однако, никогда не было; мы находились на покрытом снегом склоне одной из высочайших гор в свете, у подножия которой лежали окутанные покрывалом ночи ледниковые мысы, ручьи и озера, и вместе с тем на пороге одного из самых фантастических ледяных царств. Стоило сделать несколько шагов, чтобы свалиться в зияющую ледяную пропасть глубиной в 400 метров.
Я вышел ночью из юрты прогуляться и полюбоваться восхождением полной луны. Мы были недалеко от царства бесконечного простора, начинающегося за вершинами высочайших гор, и царица ночи сияла здесь таким ослепительным блеском, что с трудом можно было глядеть на нее. Тихо, величественно плыла она над темными крутыми уступами скал на противоположном берегу ледника. Последний лежал в тени, глубоко в пропасти.
Время от времени слышался словно глухой выстрел трескавшегося льда или грохот оторвавшейся от края ледяного покрова глыбы. Луна лила серебряный свет на наш лагерь и производила чисто фантастический эффект. Черные силуэты яков, с понуренными головами, резко выделялись на белом снегу, неподвижные и молчаливые, как те камни, к которым они были привязаны; время от времени слышался только лязг их челюстей или хруст снега под их копытами.
Трое киргизов, которым не хватило места в юрте, развели себе огонь между большими глыбами, а когда он погас, завернулись в тулупы и прикорнули вокруг, подогнув колени и уткнув голову в снег, напоминая летучих мышей в зимнее время.
Когда я вошел в юрту, Ислам-бай и Иехим-бай молча сидели, закутанные в тулупы, возле тлеющего костра. Мы все трое стучали зубами от холода, снова развели костер, а юрта опять наполнилась едким дымом.
Когда вечерние наблюдения были закончены, мы закутались в тулупы и войлочные ковры, огонь погас, и только луна любопытно заглядывала во все щели юрты. Казалось, конца не будет этой долгой, тяжелой ночи. Как мы ни ежились, упираясь коленами в самый подбородок, невозможно было сохранить теплоту тела. Холод становился все чувствительнее, тем более что юго-западный ветер с часу на час усиливался. Никто глаз не сомкнул во всю ночь.
Только уже под утро я как будто впал в дремоту, но то и дело пробуждался от недостатка воздуха и делал судорожные вдыхания. Люди мои стонали, точно на ложе пытки, и не столько от холода, сколько от все усиливавшейся головной боли.
Наконец взошло солнце, но озаренный им новый день оказался для нас крайне неудачным. Юго-западный ветер перешел почти в ураган, взвивал густые облака мелкого снега. Киргизы, проведшие ночь вне юрты, чуть не окоченели совсем и еле втащились в юрту, где был разведен большой костер. Все были больны, унылы, никто не говорил, никто не ел. Я даже едва дотронулся до чаю, которого так и не удалось сделать горячим. Яки не двигались, точно застыли на своих местах с вечера.
Вершина горы была окутана непроницаемой пеленой снежных вихрей. Нечего было и думать продолжать сегодня подъем; это значило бы искушать Бога. Нам пришлось бы пробираться в ужасный буран по неведомой местности, может быть усеянной трещинами, и чего доброго, заблудиться и погибнуть.
Я сразу убедился в невозможности покорить на этот раз горного великана, но все-таки хотел испытать своих людей, велев им готовиться к подъему. Никто не вымолвил слова, все разом встали и начали приготовления, но, видимо, были очень обрадованы, когда я отменил приказ.
Стоило кому-нибудь высунуть нос из юрты, чтобы тотчас же живо спрятать его опять. В юрте, по крайней мере, мы были защищены от ветра, который пронизывал до костей сквозь все тулупы, меховые шапки и валенки. Я, однако, крепко надеялся, что вьюга уляжется к полудню и можно будет продолжать подъем.
Увы! Она все усиливалась, и в полдень стало ясно, что день пропал. Три киргиза должны были заняться уборкой палатки и навьючиванием яков, а я, Ислам и Иехим, напялив на себя все, что только нашлось под рукой, сели на яков и быстро покатили вниз по сугробам.
Яки неслись по крутизнам прямо без оглядки, ныряли, точно выдры в сугробах, и, не смотря на всю свою тяжеловесность, ни разу не поскользнулись, не упали. Сидя верхом на яке, чувствуешь себя едущим в сильные волны в валкой ладье, и надо уже пенять на себя, коли не тверд в коленях. Часто приходится совсем опрокидываться назад, спиной на спину яку, и балансировать всем корпусом в такт неожиданным, но всегда ловким, уверенным движениям животного.
Как приятно было, оставив за собой последние сугробы снега, снова завидеть наш лагерь, лежавший внизу в глубине. Там ждали нас давно желанный обед и горячий чай, вернувшие жизнь нашим членам; затем мы улеглись каждый в своем углу и заснули крепким сном.
Весь следующий день мы, однако, чувствовали себя, точно выздоравливающие после продолжительной болезни. Итак, я четыре раза неудачно пытался взойти на вершину Мустаг-аты, но не могу сказать, чтобы это было абсолютно невозможно.
Совершить этот подъем с того склона, с которого пытались мы 11 августа, действительно невозможно без особых приспособлений. Но за крутым выступом, которого мы достигли 18 апреля, 6 и 16 августа, не виднелось - насколько я мог различить в бинокль - никаких непреодолимых препятствий к подъему.
Оттуда, имея здоровые легкие, можно добраться до северной вершины, однако не самой высокой в группе Мустаг-аты, но соединяющейся с таковой отлогим гребнем. Между этими вершинами и под ними простирается огромное фирновое поле ледника Ямбулака. Насколько доступна для перехода эта область - другой вопрос.
о всей вероятности, она изрезана трещинами, а самый фирн образует такой мощный покров, что переход через него занял бы несколько дней. Счастливые обитатели сказочного Джанайдара отгородились от остального мира неприступными укреплениями.
Опыт научил нас, что невозможно в один день совершить подъем на вершину, но мы убедились также и в том, что крайне непрактично ночевать на высоте 20000 футов, - такая ночь сильно отзывается на физическом и нравственном самочувствии.
Лучшим средством достигнуть вершины было бы, без сомнения, отправиться ясным тихим утром в начале июля из лагеря на 5000 м высоты и совершить подъем в один день. Яками следует пользоваться до последней возможности, а когда они откажутся идти, продолжать путь пешком.
К сожалению, я не мог больше повторять своих попыток отчасти из-за позднего времени года, отчасти из-за дурной погоды. Если бы на подъем отважился бывалый и хорошо подготовленный альпинист в сопровождении закаленных и опытных проводников-швейцарцев, он наверное достиг бы очень значительной высоты, а может быть, и северной вершины.
Но даже и проводник-швейцарец, как бы он ни был опытен, очутится здесь совершенно в неизвестных для него условиях, так как вершина Мустаг-аты на 9000 футов выше высочайших вершин Европы.
Итак, прощай, отец ледяных гор, мощный властелин великанов Памира, являющийся узлом высочайших хребтов света и шпилем на "крыше мира", точкой, где Куньлунь, Каракорум, Гиндукуш и Тянь-Шань протягивают друг другу руки.
Продолжай сиять маяком для блуждающих по пустыне. Посылай освежающее веяние со своих снежных вершин изнывающему от летнего зноя в пустыне страннику, и пусть оживляющие источники, рождающиеся в твоем лоне, журчанье которых я слышу сейчас, продолжают тысячелетия свою отчаянную борьбу с все душащим песком!
XVI. Новое путешествие по Памиру.
18 августа последний раз побывали на леднике Ямбулак. Надо было проверить положение шестов, водруженных нами в лед 3 августа. Оказалось, что они едва-едва подвинулись за эти две недели. Чем ближе к середине ледника, тем, однако, передвижение их сказывалось заметнее. Внешний вид льда сильно изменился.1
В последнее наше посещение ледник был покрыт снегом и крупой; теперь он был обнажен и выставлял наружу острые ребра, глубокие впадины, просверленные всосавшимися в лед камнями; идти по леднику было поэтому очень скользко и затруднительно.
Зная, что китайцы зорко следят за мной, чуть ли не считая меня шпионом, я не хотел давать лишней пищи их подозрениям и решился перейти границу тайком, ночью, в не оберегаемом караулом пункте и таким же путем вернуться обратно.
Сопровождать меня должны были только Ислам-бай да двое киргизов: всех остальных я отпустил. С помощью бека Тогдасына мы распространили слух, что я направился к Каракоруму, южному склону группы Мустаг-аты.
Вечером 19 августа я отправил все свои вещи и коллекции к одному из моих киргизских друзей, старику Иехим-баю, который отлично спрятал их под коврами и кошмами. По возвращении из Памирского поста мы узнали, что китайцы, удивленные моим исчезновением, производили разведки по всей местности.
Умный Иехим-бай счел за лучшее препроводить весь мой багаж в более надежное укромное местечко и скрыл его под большой глыбой в конечной морене ледника Кемпир-кишлака, предварительно хорошенько окутав сундуки войлоками, чтобы предохранить от сырости.
В кибитке Иехим-бая мы сделали все приготовления к бегству. Добыли четверку хороших лошадей, упаковали все нужные приборы, кошмы и ковры и продовольствие на три дня, так как нам предстояло ехать по совершенно неизвестной местности 130 верст.
Часа два мы сидели возле огня, болтая, распивая чай с яковыми сливками и закусывая бараниной. Потом, на восходе луны, люди навьючили лошадей, и в 11 часов вечера мы, хорошенько закутавшись, так как дул сильный ветер, отправились гуськом между грядами старых морен Мустаг-аты.
Часа через два мы спустились в долину Сары-кол. Как раз внизу, в долине, нам и предстояло миновать опаснейшее место; здесь расположен китайский караул, оберегающий русско-китайскую границу. Мы ехали тихо и медленно и проехали так близко от караула, что киргизы своими соколиными глазами видели юрты, но никто не окликнул нас, даже собаки не залаяли, хотя с нами был Джолдаш.
Люди мои сильно трусили и ободрились, только когда мы оставили караул далеко позади, - они знали, что, если бы нас захватили, им пришлось бы отведать китайских бамбуковых палок. Около 4 часов утра 20 августа мы счастливо достигли перевала Мус-куру, где были сделаны некоторые наблюдения, во время которых нас захватила вьюга. Отсюда местность медленно понижается к западу. Мы ехали по широкой долине Нагара-кум (Барабанный песок).
Дно ее усыпано большей частью мелким желтым летучим песком, который около склонов гор образует красивые дюны. Песок наносится сюда западными и юго-западными ветрами, которые почти постоянно бушуют над Памиром. Но они не могут переступить порога, образуемого хребтом Сары-кол, и поэтому песок накопляется у подошвы хребта.
В сумерки достигли Мургаба, который в эту пору являлся величественной рекой; привал сделали на маленькой лужайке на правом берегу реки, где и провели ночь прямо под открытым небом. Несколько слов о моем верном Джол-даше!
Он был моим дорожным товарищем и в этом путешествии по Памиру, переносил самые тяжелые лишения без ропота, неуклонно нес при нас ночную сторожевую службу и при этом всегда был в прекраснейшем расположении духа. Когда мы, бывало, по пути приближались к какому-нибудь аулу, он стрелой мчался вперед и тотчас заводил драку с собаками аула.
Несмотря на всю его ловкость и увертливость, ему, разумеется, всегда задавали трепку, и тем не менее он никогда не обнаруживал ни малейшего страха перед неприятелем, хоть бы последний и был вдесятеро сильнее его.
Во время этого форсированного марша на Памирский пост Джолдаш стер себе задние лапы. Люди сшили ему кожаные чулки, в которых он стал похож на "Кота в сапогах". Презабавно было смотреть, с какой осторожностью он испытывал это диковинное приспособление.
Сначала он перебирал только передними лапами, тащась на обеих задних вприсест. Потом заковылял на трех ногах, попеременно пуская в ход то ту, то другую из задних лап, и в конце концов вполне убедился в целесообразности обуви, защищавшей задние лапы от новых поранений.
На следующее утро мы перебрались на левый берег Мургаба и продолжали путь вдоль по реке к западу. Наконец мы перешли кулисообразные скалистые высоты, которые выступают в долину, и тут перед нами вдруг открылось расширение долины, где впадает в Мургаб Ак-байтал и где расположен Памирский пост.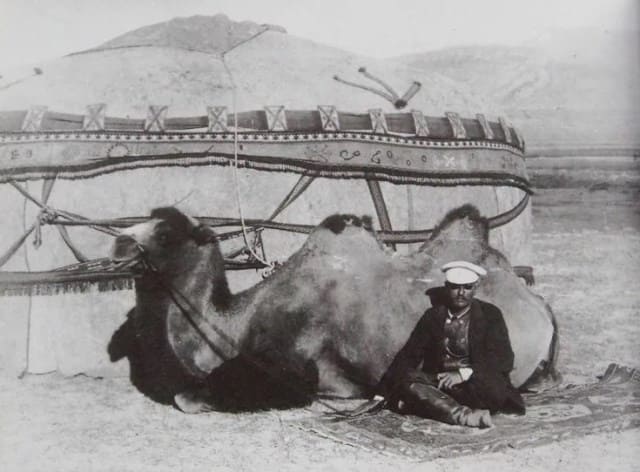
Мы ехали целый день форсированной рысью. Около 5 часов дня на фоне темных гор обрисовался голубоватый дымок, а спустя час мы въезжали во двор укрепления. Все было тихо и безмолвно; не было видно ни одного офицера; только часовой крикнул: "Кто идет?" Оказалось, что вчера приехал в крепость молодой офицер из Петербурга и крепостные офицеры устроили сегодня в честь его пикник где-то неподалеку.
Общество, впрочем, скоро вернулось с моим старым другом капитаном Зайцевым во главе. Зато из молодых офицеров, служивших прошлой зимой под его начальством, не осталось никого; все ушли с генералом Ионовым в поход в Шугнан на афганцев. Их сменили другие, которым предстояло служить под командой капитана генерального штаба Скерского. Еще, со времени моего пребывания, в укреплении произошли две перемены.
В этом глухом местечке, которое один из моих ферганских друзей назвал райским уголком, потому что тут нет женщин, появилась теперь молодая супруга нового коменданта, немка по происхождению, очень симпатичная дама, самым любезным образом исполнявшая роль хозяйки за столом. Конечно, у всякого свой вкус, но, по-моему, теперь крепость более заслуживала названия рая, чем прежде. Затасканные военные сюртуки и нечищеные сапоги уступили место более тщательному туалету.
Смягчающее облагораживающее влияние женщины сказывалось во всем. Затем, в крепости появился оркестр из 12 человек, который играл ежедневно во время обеда под окном "офицерского собрания", или "клуба", как называлась теперь зала казино, стены которого были увешаны картами Памира и планами крепости.
27 августа я отправился на Яшиль-куль; меня любезно сопровождали весь первый день (40 верст) капитан Зайцев и молодой поручик. К несчастью, киргизы около Шаджана дали нам дурной совет перейти через реку в 10 верстах ниже, так как, по их словам, там правый берег был удобнее для езды и воды в реке было значительно меньше. Когда мы добрались до указанного места, один из киргизов отправился вперед показать самый брод.
Посреди реки вода, однако, дошла до 120 сантиметров глубины; лошадь потеряла опору под ногами, и течением ее понесло вниз по реке. К счастью, ей опять удалось попасть на мелкое место, и она вышла на другой берег с мокрым до пояса всадником. После того как брод перешли еще двое киргизов, капитан Зайцев тоже бросился с лошадью в воду и достиг другого берега, но до того вымок при этом, что счел за лучшее стащить с себя полные воды сапоги и высушить их и нижнее платье на солнышке.
У меня не было никакой охоты искупаться, поэтому я дождался трех верблюдов, навьюченных нашими пожитками, взобрался на самого высокого из них и перебрался сухим. Затем мы продолжали путь и в сумерки достигли устья долины Агалхар, где разбили лагерь в защите торчащей из земли скалы. Зайцев захватил с собой полный обед и пару бутылок красного вина, и мы весело поужинали при свете пестрых китайских фонарей и ярко горящего костра.
Было произнесено много более или менее подходящих к случаю речей, спето, хоть не совсем верно, множество песен и даже целых опер, будивших, однако, крайне негармоничное эхо между скал. К счастью, других слушателей, кроме нас самих да киргизов, не было; последние стояли вокруг и глядели на нас с изумлением, вероятно опасаясь - не повыскочили ли у нас в пути из голов кое-какие винтики.
Лишь далеко за полночь пение уступило место приятным сновидениям. На следующий день мы остановились в Агалхаре, где капитан Зайцев с успехом сеял ячмень, пшеницу и сажал репу и редиску, несмотря на то о место это находится на высоте 11 000 футов. В течение дня я нанес на карту часть течения реки к западу. Проведя вместе еще один веселый вечер, мы расстались рано утром 2 августа; мои русские друзья вернулись на Памирский пост, а я с моими людьми продолжал путь по долине Агалхар.
В течение двух дней мы перевалили через хребет Базар-дере, в котором открыли новый перевал на высоте 4869 метров и назвали его перевалом Зайцева. Значения большого он не имеет, так как труднопроходим: подъем очень крут, и оба склона покрыты мелким сланцевым щебнем, по которому лошадям трудно ехать. Едва заметная тропинка через перевал свидетельствовала, что им пользуются только дикие козы да архары.
По южную сторону хребта местность медленно понижается, переходит в Мус-джилгу и затем в широкую продольную долину Аличур, лежащую почти на 2000 футов выше долины Мургаба. В ней разбросано 120 киргизских кибиток. Еще два дня пути, и мы были в Сюме на восточном берегу Яшиль-куля. По дороге перешли через реку Ак-балык (Белая рыба), иначе называемую Балык-мазар (Рыбная святыня); в темно-синей, прозрачной воде водится множество больших (1 фут длиной) жирных рыб с черной спиной.
Они живо заинтересовали нас с кулинарной точки зрения, и мы сделали долгий привал у бассейна, чтобы наловить их. То обстоятельство, что у нас не было с собой никаких рыболовных снарядов, разумеется, мало смущало нас. С помощью бечевки, крючка от часовой цепочки и кусочка баранины мы скоро выловили три рыбы. На ночевке в Босале киргизы поджарили их на яковом масле, и у нас заранее текли слюнки. Но рыбы оказались несъедобными, имели противный терпкий вкус.
Одному Джолдашу они пришлись по вкусу, но ему пришлось раскаяться в своей жадности, должно быть, расстроил себе желудок и выл всю ночь. На левом берегу реки Аличур нам попалась одинокая могила, обнесенная каменной оградой. Здесь погребены семь афганских солдат, павших два года тому назад в бою с русскими. Тут же валялись лохмотья кошм и шесты от кибиток, в которых они жили. Шесты пополнили наш запас топлива, хотя Иехим и протестовал против ограбления могилы.
Ночь на 2 сентября мы провели в рабате Сюме, который представляет три гумбеза (башенки ульеобразной формы), возведенные ханом Абдуллахом, а на следующее утро мы побывали на бившем неподалеку горячем серном источнике, а также прошли взглянуть на "тамга-таш" (камень-печать), говоривший, что было время, когда китайцы считали себя господами Памира. На верхней стороне камня есть углубление, в которое была прежде вставлена каменная плита с надписью, увезенная в Петербург.
Затем мы отправились на запад по северному берегу Яшиль-куля, расположенному на высоте 3799 метров. Долина Аличур суживается здесь так, что ширина озера не превышает 3 километров, длина же его равняется 23 километрам. Вода в нем голубовато-зеленая, но не такая прозрачная, как в Малом Кара-куле. Воды долины Аличур под именем Гунта прорезывают узкую крутую и дикую долину и впадают в реку Пяндж.
Через Аличурский Памир и перевал Найза-таш (4155 метров) я вернулся еще раз на Памирский пост. Сюда дошел слух, что бек Тогдасын получил 300 ударов за то, что не донес Джан-дарыну о моем переходе через границу, и что бек лежит теперь при смерти.
Опасаясь, что китайцы секвеструют оставленные мною вещи и коллекции, я поспешил, сердечно распростившись с гостеприимными русскими офицерами, через перевал Сары-таш (4434 метра) к Мустаг-ате, и 16 сентября мы благополучно достигли ее западного склона.
Тут мы узнали, что слух насчет бека Тогдасына был неверен. Старик был здоров и весел и в тот же вечер навестил нас. Насчет моих вещей китайцы так ничего и не узнали, несмотря на все свои разведки у киргизов, бывших у меня в услужении; вещи были хорошо припрятаны в скалах под глыбами.
За время нашего отсутствия зима подвинулась гигантскими шагами. Снеговой покров гор значительно спустился вниз; весь Сарыкольский хребет был покрыт тонкой белой пеленой; горные речки сузились в крохотные ручейки, и вся природа точно готовилась погрузиться в долгий зимний сон. Мустаг-ата вздымалась над нами ледяная, холодная, грозная, и у нас пропала уже всякая охота атаковать великана.
Моим намерением было обойти вокруг Мустаг-аты, следуя около самой ее подошвы, а затем продолжать путь к северу и северо-западу, назад к озеру Малый Кара-куль. К сожалению, по словам киргизов, это было невозможно, так как восточные склоны, представляющие хаос крутых и зубчатых гребней, были непроходимыми даже для пешеходов.
Чтобы убедиться в этом, я предпринял разведочную экскурсию до истоков реки и убедился, что киргизы правы. Оставалось поэтому одно -- обогнуть горную группу по старому пути через Гиджак и Улуг-рабат. 30 сентября мы и очутились снова на хорошо знакомом восточном берегу Малого Кара-куля.
XVII. На Малом Кара-куле.
На этот раз мы пробыли на Малом Кара-куле с конца сентября до 9 октября. Нам нужно было отдохнуть. Неподалеку находился аул из шести кибиток. Я и привлек к совещанию относительно способа промера глубины озера всех мужских обитателей аула, бека Тогдасына и еще нескольких из наших киргизских друзей.
Лодки, разумеется, негде было достать; да и понятие-то о лодке вообще имел только один из всех киргизов, видевший таковую на верховьях Аму-дарьи. Другие же и не знали вовсе, что это за штука такая и как ее сделать.
Материала для лодки также негде было взять - во всей долине Сары-кол растут только шесть тощих березок около Каинды-мазара, да и тех нельзя было трогать, не совершив святотатства. До ближайшей же рощи было около 15 миль пути.
Единственным материалом под рукой являлись слегка выгнутые жерди, служащие для остова юрт, да шкуры животных. Но как смастерить из этого лодку, не мог придумать и умнейший из киргизов. Тогда я сделал из палочек и промасленного холста небольшую модель лодки с парусом, рулем и килем; модель эта, к большому удовольствию киргизов, отлично плавала по озеру.
Но бек Тогдасын заявил, что если смастерить такую лодку в больших размерах, то прогулка в ней наверняка будет стоить мне жизни, и советовал лучше подождать заморозков, когда озеро станет, чего надо было ожидать, по его словам, недель через шесть.
Уже теперь температура падала ночью до - 10°, и маленькие береговые лагуны каждое утро подергивались тонким ледком, который таял к полудню. На Кара-куле же сильное волнение не давало воде застыть, и, кроме того, в течение всех девяти дней нашего пребывания на озере с утра до вечера дул по направлению к Булюн-кулю сильный южный ветер.
Но мы не унывали: я велел разбить юрту всего в двух метрах расстояния от самого берега, чтобы поближе слышать музыку волн, а рядом с юртой устроил и верфь, на которой мы стали сооружать лодку. Гибкие жерди связывались и переплетались крепкими бечевками, и через несколько часов остов лодки был готов; в длину он равнялся всего двум метрам, а в ширину метру.
Лошадь, околевшая накануне, да одна овца ссудили нас шкурами для обтяжки остова. Воздвигнута была и мачта с красным, как огонь, парусом; затем с каждой стороны около бортов прикрепили по два надутых козьих бурдюка да около кормы один - корма уже начала было подозрительно погружаться. Весла соорудили тоже из жердей, расщепленных на одном конце наподобие двузубых вил; между зубьями же натянули козью кожу.
Рулем служила попросту укрепленная на корме лопата.
3 октября эта своеобразная лодка была спущена. По правде сказать, она не делала чести шведскому судостроительству; судну нашему совершенно недоставало правильной округленности форм, чем так славятся наши катера. Своими кривыми, косыми боками оно напоминало скорее поломанную коробку из-под сардинок; когда же его спустили на воду и оно закачалось около берега на своих надутых бурдюках, то походило на какое-то допотопное животное.
Бек Тогдасын прибыл ранним утром поглядеть на чудовище. Остановившись в почтительном расстоянии, он скорчил невыразимо комичную гримасу, обозначавшую, должно быть: "Так вот какие бывают лодки! Не ожидал!" Но он тактично промолчал, а я кусал губы, чтобы не рассмеяться. Позже я пригласил его прокатиться вместе, он согласился после нескольких отговорок, и на деле оказалось, что он далеко не так боялся воды, как все его сородичи.
В день спуска судна к нам съехались и ближние и дальние киргизы. Я спросил стариков, как они думают, удержался ли бы от смеху сам Джан-дарын, если бы мы погрузили его на наше судно и покатали по озеру, и старики чуть не лопнули со смеху.
Никогда чистые, голубые волны не плескались о борта более жалкого судна. Оно нисколько не гордилось тем, что было первым судном на Кара-куле и на такой значительной высоте над уровнем моря. Напротив, оно боязливо качалось на резвых волнах, которые словно играли с ним, и, хотя остов его был обтянут лошадиной, овечьей и козьей шкурами, делало самые неуклюжие повороты, притом именно тогда, когда меньше всего ожидали этого.
Лодка наша соглашалась идти и на север и на юг, но только с попутным ветром, иначе преспокойно повертывала туда, куда дул ветер, словом, была настоящим яком по упрямству. И так как все время дул южный ветер, то нам оставалось только каждый раз перетаскивать лодку на южный берег и затем уже, плывя по ветру, производить промер. Впервые этот способ был применен 4 октября; лодку на лошади перевезли по мелкой воде на южный берег; там я уселся в нее с Магометом Турды.
Ветер был не сильный, но холодный, и я поэтому надел тулуп. Мы были еще не особенно далеко от берега, как налетел шквал и развел сильное волнение. Мы убрали парус и крепко схватились за борта, так как лодка прыгала словно взбесившаяся лошадь.
Положение было критическое: лодка, быстро очутилась на середине озера и до обоих берегов было далеко. Я правил "рулем"; вдруг корма нырнула в волны, вода наполовину наполнила лодку и основательно вымочила нас. Оказалось, что бурдюк, поддерживавший корму, оторвался и поплыл себе по волнам один. Каждая новая волна, настигавшая нас, обдавала нас новым душем, хотя я и старался лопатой разрезать волны, а киргиз изо всех сил вычерпывал воду.
Положение становилось серьезным, особенно ввиду того, что оба остальные бурдюка быстро худели - воздух выходил из них со свистом. Лодка накренялась на бок. Волны лезли в нее со всех сторон, словно бешеные морские тролли в белых шапках.
Я сильно опасался, как бы и остальные четыре бурдюка не оторвались и не уплыли или как бы из них не вышел весь воздух прежде, чем мы успеем добраться до берега, и я уже измерял глазами расстояние, соображая, смогу ли я проплыть его.
Настроение наше, конечно, не выигрывало от того, что Магомет Турды начал испытывать приступы морской болезни. Бедняга раньше понятия не имел о том, что такое кататься в лодке и что такое морская болезнь, и поэтому не в шутку воображал теперь, что пришел его последний час.
Киргизы, и пешие и конные, собрались на ближайшем к нам берегу и ждали с минуты на минуту, что лодка потонет. Нам, однако, посчастливилось продержаться с нею на воде и добраться до мелкого места у берега. Тут у нас гора свалилась с плеч. Промокшие насквозь, но здравые и невредимые, мы наконец очутились на берегу, поспешили в лагерь и велели развести большой костер, чтобы высушиться. Итак, первая же научная экскурсия на лодке потерпела фиаско.
В течение следующих дней, нам удалось без особых приключений провести три хорошие промерные линии. 8-го мы отплыли от западной части южного берега. В этот день мы нарочно выехали попозднее, выжидая, чтобы ветер немного утих, и медленно поплыли по озеру, не ставя паруса, чтобы не помешать точности промера. Час проходил за часом, стало смеркаться и уже стемнело, пока мы успели выгрести на мелкое место; до северного берега нам оставалось каких-нибудь сотни две метров.
На мгновение наступило полное безветрие, но вслед за тем с силой задул северный ветер и погнал лодку, как скорлупку, на середину озера. В перспективе было целое озеро и целая ночь. Мало толку было, что мы работали веслами изо всех сил, - ветер брал верх, и нас все несло на середину.
Пока не взошел месяц, было совершенно темно; на берегу Ислам-бай, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, развел большой костер, служивший нам маяком. Северный ветер продолжался, к счастью, недолго, и к полуночи мы с помощью весел добрались-таки до нашего лагеря.
Большим преимуществом здешнего фарватера являлась невозможность столкновения в темноте с другим судном. Мы были полными хозяевами на Кара-куле, и лодке нашей открывался полный простор.
Посмеявшись над нашим славным судном, надо все-таки и похвалить его. Меня очень огорчило, что, по окончании навигации за выполнением всех работ и наступлением неблагоприятной погоды, пришлось разобрать нашу увеселительную яхту на части и вернуть материалы по принадлежности вместо того, чтобы целиком доставить ее в Северный музей, где она, без сомнения, привлекла бы общее внимание.
Как бы то ни было, наша лодка научила киргизов, что за штука такая лодка, хотя и не внушила особенно высокого понятия о шведском навигаторском искусстве. Киргизы уверяли, что в озере не водится никакой рыбы, и в самом деле я нашел всего одну маленькую мертвую, плававшую поверх воды. Рыбка принадлежала к той же породе, как и сохраненный мной экземпляр из близлежащего Басык-куля, и была, вероятно, занесена сюда какой-нибудь птицей.
Но несправедливо было бы назвать Кара-куль безжизненным озером. Во время моих топографических работ на берегах я часто вспугивал целые семейства почтенных диких гусей или уток, которые мирно покрякивали в прибрежном тростнике, а при нашем приближении подымались и улетали на озеро.
По ночам мы часто слышали крик диких гусей, сзывавших гусят или летавших над нашей юртой. Некоторым семействам приходилось делиться с нами своими членами, чтобы внести некоторую перемену в наше чересчур однообразное меню.
Не без грусти покинул я это маленькое прекрасное горное озеро, на которое привык смотреть почти как на свою собственность; мы провели здесь много мирных, обильных наблюдениями дней! Покинули мы его 9 октября. Выл бешеный южный ветер; волны пели свою обычную грустную, убаюкивающую песню, которую никогда не устанешь слушать, но скоро она замерла вдали, а мы еще раз направили свой путь к ледяному царству Мустаг-аты.
XVIII. Возвращение в Кашгар.
Прежде чем повествовать о возвращении с Памирского нагорья в Кашгар, позволю себе посвятить несколько слов киргизам, среди которых я прожил столько времени. Я уже дал описание байт, играющих такую важную роль в их однообразной жизни.
Вообще же интересы жизни киргизов сосредоточиваются на скотоводстве да на связанных с этим перекочевках с места на место. Лето киргизы проводят в яйлаках (летние кочевья), расположенных на склонах Мустаг-аты и гор Памира; в кишлаки же, или зимние стоянки, расположенные в долинах, они возвращаются, когда в горах выпадает снег и становится холодно.
Каждый аул состоит большей частью из семейств, принадлежащих к одному роду, и у каждого аула есть свои определенные яйлаки и кишлаки, на которые никакой другой аул уже не имеет права посягнуть без общего на то согласия.
На другой день после рождения ребенка все родственники являются с поздравлением. Закалывают барана, сзывают гостей и совершают моление. На третий день мулла дает ребенку соответствующее дню его рождения имя, беря его из книги, в которой каждый день отмечен особым именем. К этому имени прибавляется имя отца ребенка и слово "оглы", т.е. сын, например, Кенче-Сатовалды-оглы.
Когда молодой киргиз захочет жениться, родители высматривают ему подходящую невесту, которую он и должен волей-неволей взять. Последняя, напротив, может отказаться от брака, если жених ей не понравился, хотя и тут в большинстве случаев дело вполне в руках родителей. Если же жених сирота, он сам выбирает себе невесту. Каждый жених обязан внести родителям невесты "калым", или выкуп. Б
огатые киргизы платят до 10 - 12 ямб (1 китайская ямба стоит 80 - 90 рублей), бедные - пару лошадей или яков. Родители поэтому всегда ищут для дочерей "баев", т.е. богатых женихов, а для сыновей некрасивых и бедных невест, за которых не потребуют большого калыма.
За красивых, молодых девушек берется всегда очень большой калым. В области Мустаг-аты проживала одна замечательная красавица киргизка Невра Хан, к которой сваталось множество женихов из ближних и дальних аулов. Но отец ее требовал такой несообразный калым, что она все еще сидела в девках, хотя ей и было уже 25 лет. Один молодой киргиз, смертельно влюбленный в нее, просил меня ссудить его требуемой суммой, родители жениха и невесты тоже пытались склонить меня к этому, но, конечно, напрасно.
Когда дело слажено, самая помолвка может быть отложена на неопределенное время, пока не будет выплачен весь калым сполна. Как только это сделано, сооружают новую юрту и сзывают гостей на свадьбу.
Гостей угощают бараниной, рисом и чаем; мулла читает жениху и невесте наставление о взаимных обязанностях, устраивается байга, все надевают лучшие свои халаты, невесту тоже разряжают в пух и прах.
Если жених из другого аула, свадьбу играют в ауле невесты, откуда затем все гости провожают новобрачных в их новое жилище. Когда киргиз умирает, тело его омывают, облекают в чистые белые одежды, обвертывают холстом и войлоками и, как можно скорее, относят на кладбище.
Яма выкапывается в метр глубины; от нее идет в бок горизонтальный ход, в который тело и всовывается. Затем могила закапывается и прикрывается камнем или небольшим куполом на четырехугольной подставке, если погребенный был "баем", т.е. богатым человеком. Родственники навещают могилу до сорокового дня.
Имущество киргизской семьи обыкновенно не велико, и при перекочевках для перенесения его достаточно нескольких яков. Наиболее громоздкой частью его является самая юрта - деревянный остов ее и толстые кошмы - седла и попоны, постельные принадлежности и ковры.
Затем идет хозяйственная утварь: главнейший предмет - "казан", т.е. большой железный котел, фарфоровые чашки (чине и пиале), плоские деревянные блюда (табак), железные или медные кувшины и котелки с ручками и крышками (кунганы и чугуны), деревянные чашки (чечук) и крынки (челек).
Кроме того, в зажиточной юрте нет недостатка и в прочих предметах домашнего обихода, как то: ткацких станках, корытах, ситах, топорах, мешках для зерна и муки, колыбелях, музыкальных инструментах, треножниках для котла, щипцах и проч.
Большая часть этих предметов покупается в Кашгаре, Янги-гиссаре или Яркенде; кроме того, среди киргизов водятся и свои кузнецы и столяры. Древесный материал для юрты привозят из долин, граничащих с восточными склонами Мустаг-аты, так как в самой сарыкольской области нет деревьев.
В каждой кибитке существует особое отгороженное отделение, "аш-хана" (кладовая), где хранятся молоко, сливки и другие съестные припасы. Любимый напиток киргизов - "айран" - вскипяченное молоко с водой, которому дают скиснуть; питье это, особенно летом, действует освежающе.
"Каймак" - густые пресные яковые сливки превосходного качества, желтого цвета и миндального вкуса; "сют" - обыкновенное молоко. Все молочные продукты сохраняются в козьих бурдюках. Питаются киргизы главным образом яковым молоком и бараниной. Раз или два в неделю закалывают барана, и все население аула плотно наедается.
Все собираются в юрту и усаживаются вокруг огня, над которым варится в котле мясо; затем куски делятся между присутствующими. Каждый вынимает нож и срезает со своей порции куски мяса до самой кости. Последнюю затем раздробляют, чтобы добраться до мозга, считающегося самым лучшим лакомством.
Как перед трапезой, так и после происходит омовение рук. По окончании ее все проводят рукой по бородам и в один голос восклицают: "Аллаху экбер!" (Господь велик!) Пять установленных Кораном ежедневных молитв аккуратно читаются старшиной в каждом ауле.
В ежедневном обиходе самый тяжелый труд выпадает на долю женщин. Они ставят и снимают кибитку, ткут ковры и ленты, вьют веревки, сучат нитки, доят коровяков и коз, ходят за овцами, за детьми и ведут все хозяйство. Стада стерегут необыкновенно большие, злые собаки, питающиеся отбросами.
Мужчины, в сущности, ничего не делают; сидят большей частью день-деньской вокруг огня или много-много пригонят яков с горных пастбищ; часто ездят в гости к соседям, покупать и менять скот. Зимой же почти с утра до вечера сидят и беседуют вокруг костра из якового навоза в то время, как снаружи снег крутит вокруг юрты и воет буря.
Так мирно и однообразно протекает жизнь киргизов; один год похож на другой, проходит в тех же занятиях и перекочевках. Старится киргиз только под бременем годов, видит, как дети его уходят и основывают свои семьи, видит, как седеет его борода, и, наконец, отправляется на вечный покой возле ближайшей могилы святого, у подножия покрытых снегами гор, в области которых он и его родичи прожили свою бедную радостями, но и беспечальную жизнь.
Мое долгое пребывание в их среде было поэтому интересным перерывом однообразия их жизни. Им еще никогда не случалось раньше видеть так близко "ференги" (европейца), сопутствовать ему, наблюдать за всеми его непонятными работами. Они в толк не могли взять, зачем мне непременно нужно было посетить каждый ледник, зачем я все срисовывал, а иногда даже выламывал камни из гор и прятал себе в ящики; им все окружающее казалось таким простым, естественным и неинтересным!
Понятия их о внешнем мире очень скудны. Они знают только, зато превосходно, область, в которой кочуют, дороги через Памир и в западные города Восточного Туркестана; весь остальной мир для них - хаос. О России, Англии, Китае, Персии, Канджуте, Кашмире, Тибете, Индостане, Большом Кара-куле, Лобноре и Пекине они знают понаслышке.
Только от странствующих купцов или из ближних городов доходят до них иногда новости шумного света, но мало интересуют их, не затрагивая непосредственно их самих и их жизни. Для них Земля - плоскость, окруженная водой, и Солнце ходит вокруг Земли; как ни старайся внушить им истинные понятия, они ничего не могут взять в толк и преспокойно отвечают, что по крайней мере их
бласть стоит неподвижно.
Старые киргизы часто рассказывали мне о своем житье-бытье, и рассказы их всегда были очень интересны и поучительны, даже по самому языку. Жизнь одного старика киргиза бека Булата из области Ранг-куль является, например, настоящей эпопеей.
Во время правления Якуб-бека он двенадцать лет занимал в Тагарме должность юз-баши (сотник). После смерти Якуб-бека в 1878 г. Кашгаром овладели китайцы, а два года спустя пришел из Маргелана в Таш-курган Хаким-хан-Тюря с тысячью людей, и бек Булат с братом и 500 сарыкольцами примкнули к нему.
Несмотря на недельную осаду, таджики, обитатели Таш-кургана, не сдались. На подавление восстания двинулось большое китайское войско, и Хаким-хан-Тюря послал в Таш-курган киргиза Абдуррахмана-датху в качестве парламентера, но таджики умертвили его.
Тогда Хаким-хан-Тюря направился со своими людьми к Чакыр-агылу у начала долины Гез. Пока они стояли там, к брату бека Булата, Куруши-датхе, был прислан гонец от китайцев с извещением, что все киргизы, участвовавшие в восстании, будут преданы казни, если не выдадут Хакима.
Тогда Куру-ши покинул своего предводителя и ушел на Малый Каракуль. Здесь он получил приказ присоединиться к китайцам и напасть на Хакима около Мужи. Последний, преследуемый китайцами, бежал через Кызыл-арт, потеряв много людей.
Предводителем уцелевших киргизов стал бек Булат; когда же и эти остатки были рассеяны, он отправился к Ранг-кулю, брат же его был взят китайцами в плен и обезглавлен в Кашгаре. Опасаясь такой же участи, бек Булат бежал к Ак-байталу, где его нагнали и взяли в плен 50 преследовавших его китайцев, которые затем отправили его с семейством в Турфан. Там он жил в изгнании девять лет.
Бек Турфанский, магометанин, предоставил ему, однако, свободу и возможность беспрепятственно заниматься торговлей. Затем ввиду того, что он все время вел себя смирно, китайские власти разрешили ему вернуться на родину. Кроме того, китайцы, оценившие его деловитость, предложили ему бекство в Восточном Памире, но он отказался, говоря, что не хочет служить людям, убившим его брата. После того в Памир вступили русские, и старый бек Булат живет теперь в бедности и не у дел около Ранг-куля.
Мы часто беседовали с ним далеко за полночь, при свете голубых огоньков, перебегавших по углям костра, слабо освещавшего внутренность юрты, едва позволяя различать резкие черты сидящих на кошмах киргизов.
Не знаю, скучали ли обо мне киргизы, когда мы расстались; сердца у них жесткие, невосприимчивые к сердечным чувствам. Суровая, бедная, скупая природа, окружающая их и доставляющая им впечатления, не способна воспитать в них подобные чувства. Но вслед мне раздавалось много дружеских "хош" (прощай), "худа иол версун" (с Богом!) и "Аллаху экбер", и долго стояли киргизы на берегу Кара-куля, провожая удивленными взглядами мой караван.
Пожалуй, многие задавали себе вопросы: "Откуда он явился к нам, куда отправился и что ему нужно было здесь?" 9 октября. Вечером мы остановились в ауле Турбулюн, жители которого собирались в скором времени отправиться на зимовку к Малому Кара-кулю. Около Турбулюна зима бывает очень суровая, бураны обычное явление, и постоянными обитателями являются здесь только волки, лисицы да медведи.
11 октября, когда мы были в ауле, разбушевался страшный ветер, и киргизы жгли факел за факелом, подымая их к дымовому отверстию и восклицая "Аллаху экбер!", чтобы отвратить ветер. При особенно сильных порывах ветра они все вскакивали и крепко схватывались за юрту, которая была, кроме того, укреплена веревками и шестами. Мы все-таки сделали экскурсию на Караджилгу, где расстилались сочные пастбища и где водились горные козы и архары.
Ислам-бай застрелил на леднике одного архара, но, к сожалению, животное упало в трещину, и достать его не удалось. 12 октября мы перебрались через пользующийся дурной славой перевал Мерки-бель. Западный склон, по которому мы подымались, был не особенно крут, но снеговой покров достигал сорока сантиметров глубины. Это очень своеобразный перевал. Самый гребень его очень широк, куполообразен и покрыт тонким ледяным покровом, по которому мы проехали два километра.
Лошади тут беспрестанно спотыкались, и мы предпочли идти пешком. К счастью, у нас были на этот раз наняты вьючные яки. Малопомалу склон стал более отлогим, и мы благополучно достигли долины Мерки.
В течение следующих дней мы быстро подвигались к равнинам Туркестана. В долинах восточных склонов шел снег, а 13-го дул также сильный ветер, и мы весь день ехали в облаках крутящегося снега.
Оставив 16-го устье долины Кинкол направо, мы снова очутились на знакомом тракте и вечером остановились в Игиз-яре в том же караван-сарае, в котором останавливались в первый раз. То-то славно было освободиться от всех своих неудобных, тяжелых зимних одеяний, ставших излишними в этом теплом воздухе, и отведать за обедом плодов, кашгарского хлеба и яиц.
19 октября я опять сидел в своей комнате в доме консула Петровского в Кашгаре, где накопились для меня за лето целые горы писем и газет. Наступило время желанного отдыха, которому я и отдался, пользуясь обществом моего благородного друга консула.
Я не стану долго задерживать внимание читателя на моих кашгарских воспоминаниях, хочу только привести несколько из них. Первой моей работой было разобрать собранные мной на Мустаг-ате образцы горных пород и снабдить их ярлычками, а также привести в порядок фотографические снимки.
Затем я написал несколько научных сообщений о летних работах. В начале ноября мы получили новости из Европы. Тайный советник Кобеко, инспектировавший русский Туркестан, продолжил свой маршрут к нам. Это был очень симпатичный и начитанный человек, и неделя, проведенная в его обществе, промелькнула незаметно.
Я никогда не забуду вечера 6 ноября, когда мы сидели за чаем вокруг большого стола, беседуя под аккомпанемент шумящего самовара о политике и о будущем Восточного Туркестана. Вдруг вбежал без доклада запыхавшийся курьер-казак и подал Кобеко телеграмму с последней телеграфной станции Гульча.
Телеграмма принесла весть о смерти государя Александра III. Все встали и перекрестились; на глазах выступили слезы, и могильная тишина долго не нарушалась никем. Конечно, было известно, что здоровье государя в последнее время было неудовлетворительно, но никто не подозревал, чтобы положение его было так серьезно и кончина так близка. Поэтому горестная весть поразила всех, как громом.
какие-нибудь пять дней она проникла в сердце Азии. По закону солдаты тотчас же должны были принести присягу новому государю, но в Кашгаре не было православного священника, и потому сочли за лучшее дождаться приказа от ближайших властей. Кобеко только прочел вслух дрожащим от волнения голосом перед 58 казаками самую телеграмму; казаки выслушали ее с опущенными, обнаженными головами.
На следующий день к консулу явились дао-тай и цзянь-далой засвидетельствовать свое соболезнование. Их пестрые парадные одеяния, гонгонги, барабаны, зонтики и флаги - вся пышность их шумного появления составила такой резкий контраст с царствовавшей в консульстве тихой скорбью.
Резкие, климатические переходы, которым я подвергался в этой кочевой жизни, наградили меня лихорадкой, разыгравшейся в ноябре месяце настолько серьезно, что я слег на месяц в постель. Другую беду навлекло на меня посещение русской бани, куда меня проводили двое казаков и Ислам-бай.
Я пробыл там довольно долго, когда казаки решили, что будет с меня, вошли и нашли меня без чувств. В печке лопнула какая-то труба, и я угорел. Меня немедленно перенесли в мою комнату, где я понемногу пришел в себя, но голова болела страшно еще дня два.
Вот и Рождество пришло. Рождество! Сколько грусти, воспоминаний, тоски и надежд связано с одним этим словом! В сочельник шел легкий снег, тотчас же таявший и испарявшийся в сухом воздухе, не успевая даже выбелить землю. На улицах и площадях слышался звук колокольчиков, но это были караванные колокольчики, которые звонят тут круглый год.
И здесь на небе горели звезды, но не тем волшебным блеском, каким горят на нашем северном зимнем небе. В окнах жилищ виднелись кое-где огоньки, но это были не елочные свечки, а светильники с кунжутным маслом, столь же примитивные, как и во времена Спасителя.
Можно ли было выбрать более подходящее время для визита шведскому миссионеру Гёгбергу, прибывшему с семьей в Кашгар этим летом? Я и отправился к нему после обеда в сопровождении английского агента Мэкэртнея и патера Гендрикса, захватив с собой маленькие подарки дочке хозяина.
Были прочитаны тексты из Евангелия, пропеты рождественские псалмы под аккомпанемент органа, а вечером я и Гендрикс отправились к Мэкэртнею, где ждал нас пунш и другое рождественское угощение.
Незадолго до полночи патер ушел: он спешил в свое одинокое жилище, чтобы встретить полночь за обедней, служимой в одиночестве. Вечно, вечно одинок! 5 января 1895 г. в Кашгар прибыл англичанин Георг Литледэль в сопровождении своей отважной супруги и родственника Флетчера. Мы провели в их обществе много приятных часов.
Литледэль необычайно симпатичный человек, мужественный, но без всякой претенциозности; меня особенно радовало, что в лице его я познакомился с одним из отважнейших и умнейших путешественников по Азии.
Сам он смотрел на свои путешествия весьма критически, отличаясь большой скромностью. Он чистосердечно признавался, что путешествует ради удовольствия, охоты, спорта, предпочитая богатую разнообразием жизнь путешественника лондонским обедам и ужинам.
Тем не менее путешествием своим, начатым в 1895 г., он неизгладимыми буквами вписал свое имя в список путешественников-пионеров, рядом с именами своих знаменитых соотечественников Юнгусбэнда и Боуэра.
В середине января англичане покинули Кашгар; поезд их, состоявший из четырех больших, убранных коврами арб, представлял очень живописную картину. В Черчене Литледэль снарядил большой караван, с которым и прошел Тибет с севера на юг.
Наступило и русское Рождество, 12 днями позже нашего, и консульство снова ожило. Казаки утром в первый день праздника разбудили меня заунывным пением, а у консула состоялся большой вечер.
Для меня было большой радостью найти в этот приезд в Кашгаре земляков. Миссионер Гёгберг прибыл сюда с женой, маленькой дочкой, одной шведской миссионершей и крещеным персом мирзой Жозефом. Со стороны миссионера было рискованно приехать с двумя дамами, так как магометане приняли их за его жен, и то обстоятельство, что мирза Жозеф женился затем на шведке-миссионерше, сильно и надолго повредило успеху миссии Гёгберга.
В глазах кашгарцев мирза Жозеф все оставался магометанином, а магометанам, по закону пророка, запрещается жениться на неверных. Я охотно обошел бы молчанием все толки и неудовольствие, возбужденные этим браком, если бы случай этот не служил печальным примером того, как легко представители миссионерского общества иногда относятся к возложенной на них ответственности.
В заключение несколько слов о самом миссионерстве. Репрессалии европейских государств в ответ на убийство в Китае миссионеров, по-моему, большая несправедливость, потому что раз миссионеры отваживаются на такое рискованное дело, они сами и должны нести за то ответственность и быть готовыми на все случайности.
И разве возможно распространять христианство с помощью казней и кровопролития? Враги христианства, еще со времен Нерона, старались подобными средствами противиться распространению христианства и то тщетно, само же христианство никогда не нуждалось в помощи насилия.
Правда, за смерть миссионеров мстят не как за смерть христиан, а только как за смерть европейцев, но насилие и кровопролитие во всяком случае отзовутся неблагоприятно на результатах деятельности христианских миссионеров в Китае. Народы, стоящие на различных ступенях цивилизации, имеют и различные религиозные потребности, и кто же может утверждать, что китайцы или магометане созрели теперь для христианства?
А вот этого-то обстоятельства многие из современных, часто малообразованных миссионеров и не могут понять. Беря за образец первого миссионера, апостола Павла, они не раздумывают, что он трудился на почве, богато возделанной наукой и искусством, где человеческий дух уже созрел для воспринятия высшей религии, так как наиболее развитые классы общества уже стали сомневаться в старых богах.
И если сравнить с результатами деятельности Павла результаты деятельности сотни тысяч миссионеров на протяжении новейшего времени, то первая воссияет еще большим блеском. Причина громадной разницы между деятельностью Павла и современных миссионеров лежит, конечно, и в самом образе действий апостола.
Он странствовал с места на место, подобно дервишам Востока, жил своим трудом, оставался неимущим и неженатым, что облегчало ему непосредственные сношения с народом и изучение чужих языков, а также делало его независимым от всяких миссионерских обществ, от доброхотных пожертвований и проч.
Кроме того, он не прибегал ни к каким репрессалиям против гонителей христианства. Я еще ни разу не слыхал ни об одном миссионере, который бы в наше время следовал принципам жизни апостола Павла.
Для этого нужна большая любовь к делу, истинное бескорыстие, готовность пожертвовать всеми благами цивилизации и комфорта. Но даже если бы они и шли по стопам апостола, дело их не могло бы увенчаться таким же успехом по причине упомянутых религиозных и социальных препятствий, которые не должны никого удивлять.
Для правоверного мусульманина посягательство на его веру со стороны самодовольного чужеземца представляется несправедливым, как посягательство на самое дорогое наследство, перешедшее к нему, мусульманину, от родителей. Главные азиатские религиозные учения не поддаются уничтожению.
Духовные и социальные течения имеют в истории свое время и место, и отклонить их или остановить нельзя, как нельзя остановить прилив в море. Худы или хороши они, они непременно возьмут свое.
Что до наших шведских миссионеров в Кашгаре, я скажу, что все они необычайно солидные и достойные люди, с которыми очень приятно встречаться, что, к сожалению, бывало не часто, так как они жили за городом в жилищах, практически устроенных по азиатскому образцу.
Гёгберг умно рассудил, что было бы опасно немедленно начать миссионерскую проповедь, и вместо того занялся изготовлением разных полезных предметов домашнего обихода и ремеслами, полезными для кашгарцев.
Так, он сделал чудесную машину для обработки сырца, изготовлял прялки, мехи и т. д. к большому удивлению и восхищению населения. Встречи с Гёгбергом и его женой всегда были мне приятны, так как и они, подобно другим миссионерам, с которыми я сталкивался, были очень любезны и гостеприимны и смотрели в будущее светлым взором. Нельзя не питать уважения к людям, которые убежденно борются за торжество своей веры.
XIX. В Марал-баши и Лайлык.
В 11 часов утра, 17 февраля, я в сопровождении Ислам-бая, миссионера Иоганна и Хашим-ахуна выступил из Кашгара и направился на восток, в Марал-баши. Караван наш состоял из двух больших арб, на высоких колесах с железными шинами; каждую арбу тащила четверка лошадей.
Первая арба, в которой ехал я с Иоганном, имела соломенный верх, а внутри была выложена кошмами; заднее отверстие туннелеобразного кузова мы также завесили кошмой, чтобы по возможности уберечься от дорожной пыли.
На дно арбы мы набросали ковров, подушек и тулупов, так что сидеть было мягко и удобно, хотя экипаж наш и кидало по неровной дороге из стороны в сторону, точно лодку в бурю, а грохот раздавался такой, что впору было оглохнуть.
Владельцы арб также ехали с нами, и каждый экипаж имел, таким образом, своего возницу, который то шел пешком рядом с лошадьми, то примащивался на передке со своим длинным кнутом в руках и посвистывал.
В другой арбе ехали Ислам-бай и Хашим; в ней же помещался весь мой багаж. Обе собаки наши, Джолдаш и Хамра, были привязаны сзади моей арбы. С грохотом и скрипом повлекли нас арбы по большой дороге, вдоль левой стены города, к "Песочным воротам" - Кум-дервазе, откуда нам осталось еще почти два часа пути до Янги-шара.
Там приключился с нами комический эпизод. Какой-то китайский солдат кинулся к нам и остановил лошадей, утверждая, что Хамра его собака. Нас вмиг окружила целая толпа зевак. Я велел вознице ехать дальше, но китаец кричал, жестикулировал и бросался плашмя перед колесами арбы, требуя свою собаку.
Пришлось пойти на компромисс. Порешили, что, если Хамра пойдет за китайцем, значит, она его, а если за нами - наша. Едва собаку отвязали, она стрелой кинулась по дороге вперед и исчезла в облаке пыли. Храбрый китаец остался с носом, и наградой за хлопоты был ему только всеобщий смех.
18 февраля, миновав несколько местечек, достигли мы Файзабада (обитель благодати), самого значительного пункта на тракте между Кашгаром и Марал-баши. День пришелся как раз базарный, и узкие улицы, наполненные пестрой, суетливой толпой, отличались необычайным оживлением. Сюда стекались жители всех окрестных селений, чтобы запастись всем необходимым на целую неделю.
По дороге мы также встречали и нагоняли множество пеших и конных людей с разными продуктами сельского хозяйства, с овцами, козами, курами, плодами, сеном, топливом, разной утварью и проч.
На длинной базарной улице стоял шум и гам, толкотня и брань, слышались громкие выкрики торговцев. Там и сям мелькали женщины в больших белых тюрбанах с белыми чадрами, виднелись китайцы в голубых кофтах, пробивались сквозь толпу караваны ослов - настоящий муравейник.
Файзабадский базар замыкается на обоих концах деревянными воротами, но самое местечко стенами не обнесено. Всего в нем, если считать и разбросанные кругом дворы, дворов 700-800. Большая часть населения принадлежит к сартскому племени; кроме того, здесь много дунган и небольшое число китайских поселенцев. Местечко производит хлопок, рис, пшеницу и проч., яблоки, груши, виноград, дыни, огурцы и разные другие овощи.
19 февраля. Вокруг нас расстилается ровная серовато-желтая бесконечная равнина, покрытая толстым слоем сухой, мелкой пыли (лёсса), которая взвивается столбом от малейшего дуновения ветерка и набивается повсюду, даже в шубы, в мешки, находящиеся внутри арб, и слоями оседает на их крышах. Чтобы защититься от нее, мы накрыли арбу парусиной от палатки; полы ее были спущены спереди настолько, чтобы не закрывать нам вида.
Ехать по этой мягкой настилке мягко, точно по перине; колеса арб так и тонут в ней. Поэтому подвигаемся в наших тяжело нагруженных экипажах очень медленно. Вскоре после полудня мы сделали четырехчасовой привал в караван-сарае Янги-абада (Новое место). Во дворе стояло множество арб, нагруженных топливом, нарубленным в ближайшем дженгеле (лесу). Затем мы ехали впотьмах всю ночь от 5 часов вечера до 5 часов утра. Качка арбы скоро убаюкивает, и мы спали, зарывшись в подушки, тулупы и войлока.
Ночью мы сбились с пути, так как и возницы ухитрялись временами вздремнуть. После шумных поисков дороги, гиканья, тпруканья, едва-едва не перевернувшись вместе с арбами, мы выехали на настоящую дорогу. Около города Кара-юлгун (Черный тамариск) мы переехали по деревянному мосту через Кашгар-дарью. Город Яй-булак (Летний источник) получил свое название от того, что река здесь выходит летом из своих ровных, низких берегов и заливает их на далекое пространство.
И теперь на равнине виднелись густо обросшие камышом замерзшие болота. В теплое время года большая проезжая дорога и делает значительный крюк, во избежание затопленных мест. Около пяти часов пополудни мы доехали до места, где дорога пересекалась таким замерзшим разливом реки. Лошади бежали во всю прыть, выехали на лед, и он затрещал и подломился под нашей арбой, а сама последняя завязла по ступицы.
Выпрягли лошадей из другой арбы, припрягли их сзади арбы, и после долгих усилий удалось-таки вытащить ее на сушу. Попробовали затем перебраться по льду в другом месте, и моя арба переехала благополучно, но другая врезалась в лед одним колесом. Пришлось вытаскивать из нее весь багаж и переносить его на руках на другой берег. Погода была холодная, неприятная, и Ислам-бай развел для меня на другом берегу большой костер, у которого я и грелся, пока остальные возились еще с час с арбой.
В два часа утра мы добрались до местечка Урдаклика, где и остановились. Станционные дворы с кучами топлива и сена, сараями и арбами часто бывают очень живописны. Рогатый скот, овцы, кошки, собаки и куры очень оживляют их; яйца, молоко и хлеб можно достать везде. На этом тракте преобладают караваны ослов, перевозящих между Кашгаром и Ак-су хлопок, чай, ковры, кожи и пр.
Расстояние между этими двумя городами достигает почти 550 верст, разделенных на 18 "эртенгов" - станций или дневных перегонов. Караван или арба не может за день сделать больше одного эртенга. Китайская почта, если везет важные депеши, проезжает, однако, весь этот путь в 31/2 дня.
На каждой станции есть китаец-смотритель, заведующий почтой, и три магометанина курьера; один из них обыкновенно исполняет обязанности слуги при смотрителе, а два других несут почтовую службу. Почтовая сумка доставляется только до ближайшей станции, откуда ее тотчас же отправляют с новым курьером до следующей и т.д. На каждой станции держат более 10 лошадей, и вообще почта отличается быстротой и аккуратностью.
Почтовое сообщение между Кашгаром и Ак-Су, а также между этим последним, Карашаром и Урумчи, Хами, Са-чжоу и Лянь-чжоу-фу, однако, потеряло свое значение с проведением китайским правительством, по требованию Англии, телеграфной линии. И странно видеть вытянутые правильной линией телеграфные столбы в этой азиатской глуши. Когда китайцы проводили линию, их сопровождали целые обозы; сарты снабжали работающих и продовольствием и орудиями.
23 февраля. Лес прерывается на значительном расстоянии от Марал-баши, и дорога портится, а ландшафт оголяется и теряет всякую живописность. Еще раз переехав сухое теперь русло Кашгар-дарьи по узкому деревянному мосту, мы миновали китайскую крепость Марал-баши, обнесенную зубчатой стеной из обожженного кирпича, с башенками по углам; гарнизон крепости состоит, говорят, из 300 чел. Главная базарная улица идете запада на восток, очень длинна, пряма и грязна.
По обе стороны ее тянутся китайские и сартские лавки и ворота караван-сараев. Мы нашли пристанище себе и своим мешкам в какой-то жалкой лачуге. В Марал-баши вместе с окрестными кишлаками насчитывается до тысячи дворов. Место это называется иначе Долон, и на южных трактах это название в общем употреблении. Обозначает оно: "дикий лесной тракт", т.е. область, лишенная городов. Жители гордятся тем, что они "долоны" (У Пржевальского "дуланы". - Здесь и далее прим. перев., кроме особо оговоренных случаев), но по языку, обычаям и религии это те же восточные туркестанцы.
Я прогулялся по этому ничтожному городку, который имеет двое маленьких ворот; одни ворота называются Кашгар-дервазе, другие - Ак-су-дервазе. Обе главные мечети имеют простые глиняные фасады и деревянные галереи, обращенные во двор; называются мечети: одна - Долон, другая - Музафир. Долон расположена вблизи ворот Ак-су-дервазе, за которыми находится кладбище. Тут же оказалась и Кашгар-дарья; воды в ней было очень мало, и та почти стоячая.
Из нее выведено несколько арыков, приводящих в движение мельницы. Мы посетили одну из них. Это был попросту соломенный навес на столбах. В одном углу его мололось зерно между горизонтальными жерновами, привезенными из Кашгара. В другом углу обдирали рис (шалы - сырой рис с шелухой; груч - очищенный, белый рис без мякины).
Водяное колесо на горизонтальной оси приводит в движение деревянные молотки, ударяющие в косо поставленные желоба, куда кладется рис; беспрерывным постукиванием молотками рис и очищается от шелухи. Просеяв рис, его опять кладут в желоба, и так до трех раз, пока вся мякина не будет выброшена.
В этой местности возделывают много рису, маису и пшеницы. Утром нас посетили китайский чиновник и четыре бека, приветствовавшие меня от имени амбаня. Беки были очень учтивы, разговорчивы и нашли мой план пересечь пустыню Такла-макан выполнимым. Они рассказали, что некогда в пустыне между Яркенд-дарьей и Хотан-дарьей был большой город Такла-макан, но уже давно засыпан песками.
Теперь всю пустыню называют его именем, сокращенно же иногда попросту Такан. Кроме того, они сообщили, что в пустыне, по слухам, "не чисто" и что там есть башни, стены и дома, в которых навалены слитки золота и серебра. Но кто отправится туда с караваном и навьючит верблюдов золотом, никогда не выберется из пустыни -- духи пустыни не выпустят. Только побросав все золото, можно еще спастись.
Беки полагали, что, запасшись водой и следуя, сколько можно, вдоль Мазар-тага, удастся пересечь пустыню; но лошади скоро околеют. Из Марал-баши я сделал экскурсию на лежащий в дне пути к востоку отдельный кряж Мазар-тага. Неподалеку от северо-восточного подножия кряжа находится Улуг-мазар (Большая могила), окруженный серой стеной из высушенного на солнце кирпича. Сначала попадаешь на большой четырехугольный двор; посреди растет куст, а вокруг него ряд воткнутых в землю шестов. Как последние, так и куст увешаны маленькими флагами - красными, голубыми, белыми с красными каемками, резаными зубцами и фестонами и проч.
Через ворота входишь в ханка, или дом молитвы, устланный половиками. В глубине его деревянная перегородка, и за нею самая могила - обыкновенный могильный камень посреди четырехугольного темного помещения, украшенного тугами, флагами, рогами оленей и диких баранов. Самое здание, увенчанное куполом, возведено из обожженного кирпича; каждую пятницу его посещают благочестивые пилигримы. На наружном дворе находится ашпаз-хана, или кухня, где пилигримы трапезуют.
Мы нашли приют в одном гостеприимном доме в кишлаке Мазар-алды (Перед святой могилой), где нас посетили местные жители, от которых мы получили много важных сведений. Они сообщили, что Яркенд-дарья делится здесь на два рукава и что поблизости есть три больших богатых рыбой озера, которые сильно разливаются во время половодья.
В часе езды к северо-западу от станции Тумшук находятся развалины, известные под названием Эски-шар (Старый город); мы посетили их. Лучше всего сохранилось какое-то четырехугольное здание; каждая из его стен, обращенных одна к северу, другая к югу, третья к востоку и четвертая к западу, имела в ширину 10 метров; в стене, обращенной на юг, были ворота. Материалом для этой постройки, должно быть мечети, послужил обожженный твердый кирпич.
Внутренние углы были украшены лепными орнаментами, а ворота орнаментами, высеченными на кирпиче и бывшими, вероятно, в былое время покрытыми эмалью. Один 80-летний старик, услыхав, что мы собираемся отправиться в пустыню Такла-макан, явился ко мне сообщить, что знавал в молодости одного человека, который дорогой из Хотана в Ак-су сбился с пути, углубился в пустыню и набрел на древний город; в развалинах домов он нашел бесчисленное множество китайских башмаков, но как только дотрагивался до них, они рассыпались прахом.
Другой путник отправился из Аксак-марала в пустыню и тоже набрел на развалины города, где и нашел много слитков серебра. Он набил ими карманы и мешок, но, когда хотел направиться в обратный путь, откуда ни возьмись выскочила целая стая диких кошек и так перепугала его, что он побросал все и убежал. Когда страх его прошел, он хотел опять попытать счастья, но уже не мог найти того места: песок снова поглотил таинственный город.
Мулла из Хотана оказался счастливее. Он запутался в долгах и отправился в пустыню искать смерти. Вместо того он нашел там золото и серебро и стал богатым человеком. Бесчисленное множество людей отправлялись с той же целью в пустыню и больше не возвращались. Старец уверял, что прежде нужно отогнать злых духов и тогда только искать скрытых сокровищ; злые духи околдовывают несчастных смельчаков: голова у них начинает кружиться, и они, сами того не зная, бродят все вокруг одного места, по своим следам.
Так они ходят, ходят, пока не выбьются из сил и не умрут от жажды. Откуда же берутся такие легенды? Чем объяснить эти согласные указания на погребенные в пустыне города и на большой древний город Такла-макан? Случай ли создал эти сказания, переходящие из уст в уста по всей области от Хотана - через Яркенд и Марал-баши - до Ак-су? Без всяких ли оснований все называют древний город этот одним и тем же именем?
Что побуждает туземцев с такими подробностями описывать виденные ими развалины домов, уверять, что прежде в глубине пустыни были большие леса, где водились мускусные кабарги и другие животные? Одно желание заинтриговать чужестранцев?
Не думаю, чтобы все рассказы были игрой случая; они должны иметь основание и источник. За ними, где-то далеко, наверно, скрыта истина, служащая им основанием, и нельзя пренебрегать ими. Я заслушивался этих легендарных рассказов, как ребенок; они придавали все большую и большую заманчивость опасному путешествию, на которое я решился. Они гипнотизировали меня, я стал глух и слеп ко всем опасностям, я был околдован духами пустыни!
Даже песчаные вихри, бравшие начало в глубине пустыни, казались мне величественными, очаровательными. 2 марта, уладив все дела, я покинул Марал-баши и направился на юго-запад в селение Хамал (Ветер), расположенное на левом берегу Яркенд-дарьи. Дорога шла по слегка пересеченной местности, покрытой травой, кочками и редким кустарником. В Хамале живут 30 семей, которые возделывают пшеницу и маис; орошаются поля арыками.
Наши скрипучие экипажи уносили нас все дальше и дальше вдоль левого берега Яркенд-дарьи. Марал-башинский амбань заранее распорядился, чтобы он-баши (десятники) разных местечек и городов встречали меня на всем пути подобающим образом.
Так и было. Всюду, где мы останавливались, нам отводили помещение и снабжали всем необходимым. Путь шел по обширному болоту, по которому китайские власти лет семь тому назад велели проложить дорогу. Материалом для гати послужили сваи, брусья, прутья и земля. Местами гать прерывается, и дорога идет по деревянным мостам, перекинутым через протоки, поддерживающие сообщение водой. Иногда, в июне, в июле и в августе, дорогу все-таки заливает, и тогда едут через Кашгар.
Болото является, в сущности, мелкой лагуной, и никто не помнит даже, когда оно образовалось. Называется оно Чирайлык-тограктасы-куль (Красивое озеро с тополями). 5 марта ехали 10 часов по крайне неудобной дороге, местами залитой водой; колеса арб глубоко вязли в песке и иле. Миновали три селения, а в четвертом, Майнете, остановились в необычайно опрятном лянгаре (постоялый двор).
На стене было вывешено крупных размеров объявление на китайском и тюркском языках следующего содержания: "Я (император) слышал, что некоторые беки обложили народ непомерными налогами, захватили в свои руки рыбную ловлю, и желаю, чтобы на такие превышения власти жаловались ближайшему дао-таю. Если же последний не внемлет жалобам, пусть народ обратится прямо ко мне. Куанг-Тси".
6 марта мы ехали несколько километров по довольно большому тополевому лесу, затем выехали прямо на реку, текущую здесь двумя большими и несколькими маленькими рукавами. Она была покрыта рыхлым льдом; только около берегов виднелась открытая вода. Лайлык (Грязное местечко) - цель сегодняшнего дня - последнее селение на этом тракте, подчиненное власти марал-башинского амбаня.
Лайлык стал нашей главной квартирой, так как нам предстояло сделать разные приготовления к предстоявшему путешествию по пустыне. Главной нашей заботой было обеспечить себе верблюдов. Кашгарские купцы надули нас, уверяя, что в Марал-баши легче всего найти хороших верблюдов, - мы во всем городе едва ли видели одного верблюда. Оставалось попытаться добыть верблюдов в Кашгаре, что я и поручил Магомет-Якубу, которого все равно надо было послать в Кашгар отвезти мои письма и привезти оттуда корреспонденцию на мое имя.
В Яркенде верблюд среднего достоинства стоил 500 тенег, а в Кашгаре 400. Якуб повез письма консулу и аксакалу консульства с просьбой помочь в закупке нужных мне верблюдов. Через 10 дней Якуб должен был вернуться обратно в Лайлык с 8 верблюдами и 2 людьми.
Ислам-баю я поручил съездить в Яркенд закупить разных нужных предметов: железных резервуаров для воды, хлеба, рису, веревок, разных инструментов, как, например, кирок, топоров, затем кунжутного масла и кунжутных отжимок. Масло это идет на корм верблюдам в пустыне. Если давать верблюду в день по Vi литра масла, он месяц может обходиться без другой пищи. Но еще лучше, разумеется, если по пути найдется подножный корм, на котором животные могли бы немного подкрепиться.
Кроме того, именно в марте и в апреле верблюды неохотно идут без воды долее трех дней; зимой же, да по ровной местности, идут и шесть и семь дней, если нужно. Свиту мою, таким образом, словно ветром развеяло; остался один миссионер Иоганн.
XX. Паломничество.
Желая с пользой употребить время, пока мои люди были в отсутствии, я решил предпринять с опытным проводником экскурсию на мазар Урдан-Падишах, находящийся в песчаной пустыне в двух днях пути на запад от Лайлыка.
Мы сели на лошадей и рысью пустились сначала по лесу, который мало-помалу редел и сменился кустарником, затем по степи, которая в свою очередь перешла в песчаную пустыню. Песок здесь, однако, еще не глубок, барханы незначительной высоты; крутые склоны их обращены на запад, что указывает на господство здесь в это время года восточных ветров.
Было очень интересно проехаться по тракту, на который еще не ступала нога европейца. Оставив большое селение Могол (Монгол) вправо, мы сделали привал в Тариме; местный бек предоставил в наше распоряжение свое жилище. Места нам, впрочем, немного было надо, так как мы взяли с собой в путь лишь самое необходимое да пару лошадей. Селения Тарим и Могол имеют каждое по 200 дворов; управляются беком и 8 он-баши; кроме того, в одном из них проживает китайский сборщик податей.
"Тарим" означает "пашня", т.е. возделанное место, и жители говорят, что в былые времена местность эта действительно славилась богатыми жатвами и обильным орошением. Сюда со всех сторон стекались люди для закупки зерна. Изменение этих условий, без сомнения, находится в связи с изменением течения реки.
10 марта в 8 часов утра мы покинули Тарим и направились дальше к западу, по степи, пустырям или болотам. Поблизости находится могила святого, называемая Кызыл-джи-ханым. Название это возбуждает интерес, так как встречается у Эдризи (арабский географ XII в.). Около того места, где, собственно, начинается песчаная пустыня и барханы имеют уже около 8 метров высоты, находится незначительное селение Лян-гар.
Здесь проживает во время больших годовых праздников дервиш, который берет под свой присмотр лошадей пилигримов. В часе пути от мазара мы обогнали партию в 45 пилигримов - мужчин, женщин и детей, шедших из Лянга-ра на поклонение святыне. Пятнадцать мужчин несли "туги" - длинные шесты с разноцветными и белыми лоскутьями в виде знамен. Во главе ехал музыкант, игравший на флейте, а по сторонам его шли два барабанщика, изо всех сил колотившие по своим инструментам.
Время от времени все пилигримы разом восклицали во все горло: "Алла!" Дойдя затем до места, они с теми же дикими возгласами: "Алла!" поклонились шейху, а несшие "туги" столпились около самого мазара и стали исполнять религиозный танец. В сумерки мы добрались до ханка (дом молитвы). Тут же находилось селение, обитаемое 25 семействами, большинство из которых, однако, проживает здесь лишь временно; только четыре семьи живут здесь круглый год для присмотра за могилой.
Главный шейх, в ведении которого находится также могила Хазрет Бегам, был в настоящее время в Янги-гиссаре. Так как он должен постоянно переезжать с места на место, то в каждом пункте и имеет по жене.
Один из постоянных здешних жителей говорил мне, что за зиму на могиле перебывает 10-12 тысяч пилигримов, летом же только тысяч 5, что объясняется летними жарами и недостатком воды. Пилигримы, пришедшие с нами из Лянгара, принесли пару мешков маиса, который и был высыпан в большой котел, находящийся в особом помещении при молельне. Маис пошел затем на обед сторожам и пилигримам, но самый акт этого жертвоприношения должен был обеспечить пилигримам урожайный год.
Мне отвели необычайно уютную комнатку в верхнем этаже странноприимного дома. В комнате было окно с деревянной решеткой, из которого открывался вид на юг, на песчаное море. Всю ночь на улице шла невероятная суетня и шум. Пилигримы расхаживали в торжественной процессии взад и вперед, играли на флейтах, распевали, били в барабаны и размахивали руками. Шум, впрочем, мало беспокоил меня.
Я спал хорошо, и только утром меня разбудил бешеный песчаный вихрь, влетевший ко мне сквозь решетку окна и закрутившийся по комнате. 11 марта посвящено было ближайшему ознакомлению с этим оригинальным пунктом паломничества. Кроме главного шейха постоянный персонал священного места составляют имам, мутеваллий и двадцать супи, или слуг. Содержатся они исключительно на счет пилигримов.
Последние жертвуют по мере сил и средств лошадей, овец, коров, кур, яйца, хлеб, плоды, халаты и другие полезные вещи. Все пожертвования, исключая животных, кладутся в самый большой жертвенный котел, называемый Алтын-даш, или Золотой камень.
Всех же жертвенных котлов пять; они вмазаны в глиняный шесток в Казан-хана, или Котельном доме. Алтын-даш из бронзы и имеет полметра в диаметре. Говорят, что он сохраняется со времен самого Урдана-Падишаха. Затем идет красивый медный котел, одного метра в диаметре, пожертвованный на могилу Якуб-беком, который сам являлся сюда на поклонение три раза. Остальные котлы поменьше и разной величины.
При значительном стечении пилигримов "аш" или "палау" (рисовая каша) варится зараз для всех в самом большом из котлов. При меньшем стечении народу кушанье варится в котлах поменьше, глядя по числу ртов. Котельный дом выстроен два года тому назад; старый же наполовину засыпан песком надвинувшегося бархана, серповидный рог которого находится всего в 4 метрах от нового дома и грозит и ему.
Ветры, обусловливающие направление барханов, дуют с северо-запада. На наветренной стороне ближайшего бархана из песку выглядывает до половины могильный холм с тугами. Говорят, что холм этот существует 710 лет и скрывает прах шаха Якуб-шейха. Судя по тому направлению, по которому движутся барханы, могила скоро должна выступить из-под них совсем. Барханы имеют в ширину самое большее 120 метров, а в высоту 5 метров и, таким образом, превышают кровли всех домов в местечке.
Ханка, или дом молитвы, заключает зал для молитвы с обращенной на восток галереей о шестнадцати колоннах. Около северной окраины селения бьет пресный ключ Джевад-ханым, образующий довольно чистый водоем, обнесенный деревянной загородкой.
Раз в год водоем очищается от песку. Ключ бьет слабой струей, и при большом стечении народа в праздники воды не хватает; приходится прибегать к находящемуся в десяти минутах ходьбы дальше солоноватому источнику Чешме (персидское слово, обозначающее источник
В двадцати минутах дальше на северо-запад возвышается самый мазар, высокое, оригинальное сооружение. Это, в сущности, частокол из нескольких тысяч тугов с флагами, имеющий форму Эйфелевой башни и стремящийся к небу. Видно его издалека, так как он стоит на гребне песчаного холма, в 12 метров высоты.
Холм этот попытались закрепить, натыкав в песок вокруг мазара вязанок камыша; попытка эта удалась лишь до некоторой степени, так как та часть холма, на которой находится мазар, образует на северо-западе, т. е. с наветренной стороны, выступ, которому теперь угрожает ближайший соседний бархан.
Песчаный вихрь все продолжался, и тысячи флагов на тугах развевались и хлопали так, что треск стоял. Туги приносятся сюда пилигримами, и частокол все растет да растет. Чтобы его не повыдергало ветром, он закреплен поперечными перекладинами.
Частокол из туг поменьше образует вокруг могилы наружную четырехугольную ограду, высотой в 30 метров. Имам сообщил, что Урдан-Падишах, настоящее имя которого султан Али-Арслан-хан, воевал 800 лет тому назад с народами Тогда-рашид и Нокта-рашид, желая обратить его в ислам. В самый разгар битвы "кара-буран", или черный песчаный ураган, похоронил его и все его войско. В истории восточнотуркестанских сказочных героев Урдан и доныне играет большую роль.
12 марта мы сели на коней рано утром. Солнце так и не показывалось; небо было желто-огненного цвета, переходившего местами в пепельный. Миновав поселок Кётте-клик (Мертвый лес), мы наконец достигли Тарима; как мы, так и лошади наши были совершенно серы от насевшей на нас пыли. Пришлось ехать рысью девять часов по ала-куму, т.е. по местности, где степные участки перемежаются песчаными.
Неподалеку от реки мы переехали по мосту через большой Ханды-арык, выведенный из Яркенд-дарьи в одном дневном переходе отсюда и снабжающий водой много селений. Девять лет назад он был исправлен по приказанию китайских властей; говорят, над ним работало одиннадцать тысяч человек.
Сооружение этого гигантского канала, вероятно, было значительно облегчено тем обстоятельством, что он проложен по одному из прежних русл Яркенд-дарьи. Между арыком и рекой ясно видно несколько старых береговых линий, и здешние жители уверяли меня, что река прежде текла подле самого города, находящегося теперь в расстоянии трех километров от нее. Они, впрочем, очень довольны таким капризом реки, так как могут расширить свои поля за счет речных наносов.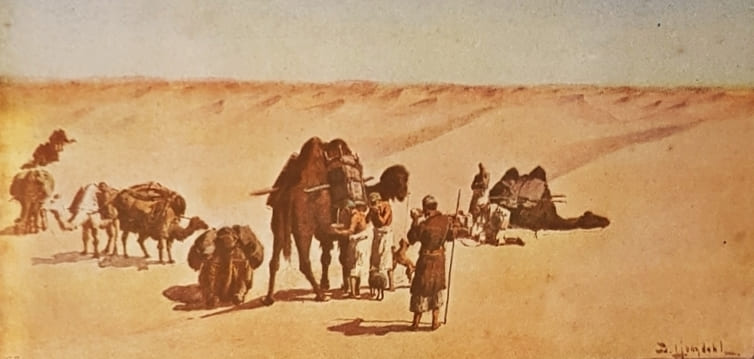
14 марта мы повернули на северо-восток, к Лайлыку. Первая половина пути лежала через целый ряд селений. Затем местность приняла пустынный характер, сохранявшийся до самого леса около Лайлыка, куда мы прибыли тотчас после полудня и нашли все в наилучшем порядке под присмотром Иоганна.
Настало время долгого испытывающего терпение ожидания. День проходил заднем, а о верблюдах не было ни слуха ни духа. Я мог бы совершенно обойти эти 25 дней молчанием, но нахожу в своем дневнике несколько записей, не лишенных интереса.
Пользуясь временем, мы собирали всевозможные сведения о пустыне, находящейся на восток. Однажды нам рассказали о двух жителях селения Янтак, которые несколько лет тому назад отправились по правому берегу реки прямо на восток, захватив с собой продовольствия на 12 дней. На третий день они пришли к очень глубокому, каменистому речному ложу, через которое был перекинут полуразрушившийся деревянный мост.
Переход по мосту был невозможен, и они сперва порешили идти вверх по руслу; по пути они видели много залежей нефрита. В легендах живет таинственный город Шар-и-катак, или попросту Ктак, также волнующий фантазию местных жителей. Местоположение его указывается различно. В Лайлыке утверждали, что он лежит в расстоянии 5 потаев (потаи - собственно путевые знаки, отстоящие друг от друга приблизительно на четыре версты) на запад от селения и что один человек много лет тому назад видел там его развалины.
По рассказам лайлыкских жителей, только один Аллах может указать путь к этому городу; иначе его не найти и во веки веков. Затем мне сообщили, что как раз на этих днях намеревалась выступить из Яркенда в пустыню партия из 12 человек на поиски золота. Для таких экскурсий вообще выбирают весеннее время, полагая, что весенние песчаные вихри обнажают золото. Месяц тому назад отправился туда еще один человек, но до сих пор не вернулся.
В Яркенде рассказывают, что путники время от времени слышат в пустыне голоса, зовущие их по имени. Интересно сравнить эти рассказы с тем, что говорит о великой пустыне Лоб венецианец Марко Поло: "Об этой пустыне рассказывают диковинные вещи, например, что, если кому из путников случится ночью отстать или заснуть и т.п., то, догоняя затем товарищей, он слышит голоса духов, разговаривающих голосами его товарищей.
Иногда духи называют его по имени, и путник, сбитый ими с толку, часто совсем теряет следы товарищей. Таким образом погибают многие". Вернулся из Яркенда Ислам-бай и привез четыре челека (железные водохранилища), шесть бурдюков, масла и кунжутных отжимок для верблюдов, керосина, хлеба, талкана (поджаренная мука), гомана (макароны), меда, мешков, лопат, кирок, кнутов, уздечек, посуду - все в надлежащем количестве.
19 марта мы собрались в большое селение Меркет на правом берегу Яркенд-дарьи, откуда предполагали выступить с караваном в пустыню. Утром и явилась целая толпа жителей Меркета, чтобы проводить нас в свое селение. Сам бек Магомет-Ниаз явился с дарами - курицей, яйцами и дастар-ханом.
Это был высокий человек, с жиденькой белой бородой и строгим энергичным взглядом. Для перевозки нашего багажа были взяты вьючные лошади, и, щедро расплатившись и деньгами и подарками с лайлыкским он-баши и его славной женой, которые оба оказывали мне всякое внимание во время моего пребывания в их гостеприимном доме, мы направились к парому, который и перевез нас с нашей многочисленной свитой и багажом в четыре приема.
через четверть часа езды в юго-восточном направлении мы миновали селение Ангытлык, орошаемое восточным рукавом Яркенд-дарьи. Через час мы были в селении Чам-гырлык, а еще через три четверти часа прибыли в Меркет.
Местный бек предоставил в наше распоряжение свой дом, и мы расположились по-домашнему в большом, удобном, устланном коврами покое с нишами в стенах. Меркет вместе с окрестными кишлаками насчитывает тысячу дворов; 260 из них расположены вблизи базара. В селении Янтак, лежащем неподалеку, 300 дворов. Вместе с Ангытлыком и Чамгырлыком Янтак составляет бекство, тогда как Меркет имеет своего отдельного бека.
В Меркете живут два сборщика податей, десять китайских купцов и четыре индусских ростовщика из Шикарпура. Область эта плодородна; здесь хорошо родятся пшеница, маис, овес, бобы, репа, огурцы, дыни, свекла, виноград, абрикосы, персики, тутовые ягоды, яблоки, груши и хлопок. В урожайные годы большое количество зерна всякого рода вывозится в Кашгар и Яркенд, зато в неурожайный приходится привозить хлеб из Яркенда.
Меркет, хотя и лежит так близко от Яркенд-дарьи, не пользуется для орошения своих полей и каплей воды из нее, получая всю нужную влагу из реки Тызнапа, текущей параллельно Яркенд-дарье. Когда приток воды незначителен, река эта доходит только до Янтака, в другое же время она течет далеко на север и образует два небольших озера, которые лишь в половодье наполняются водой. Замечательно, что Меркета до сих пор никогда не посещал ни один европеец.
Самое название его впервые встречается в описании путешествия генерала Певцова ("Труды Тибетской Экспедиции", изд. Русского Географического Общества, т. I, стр. 77.) (он пишет "Мекет"), который, однако, не мог пробраться туда по случаю высокой воды.
Китайцам же это место давно известно; оно упоминается в изданном в 1823 г. труде "Си-юй-шуй-дао-цзи" под именем Май-ге-те. По китайской транскрипции Янтак (или Янтаклык) становится Ян-ва-ли-ке, а Тыз-нап - Тин-цза-бу. Автор китайского труда сообщает, что река эта (Тызнап) соединяется с Яркенд-дарьей. Так оно и должно было бы быть, если бы воды ее не отводились арыками и не терялись в маленьких озерах. 80 же лет тому назад описание китайцев и могло соответствовать истине.
И тут есть золотоискатели. Один человек рассказывал, что он вместе с другими целых 20 дней бродил пескам. Они взяли с собой провизии и воды на ослах. Человек этот, как и многие другие, каждый год отправлялся в пустыню попытать счастья, но пока еще не находил ничего. Тут называли пустыню "Такла-макан" и полагали, что с хорошими, сильными верблюдами мы наверно пройдем ее поперек до Хотан-дарьи.
Вечером у нас был общий прием. Бек Ниаз и он-баши из Ангытлыка, Тогда-ходжа, подарили нам по барану, а индусы щедро снабдили нас картофелем и маслом, особенно желанными для нас продуктами. Кроме того, нас угостили музыкой, меланхолическими звуками цитры и калына (род гуслей).
Тогда-ходжа, славный почтенный человек, навещал меня очень часто и засиживался в беседе со мной целыми часами. Когда я, все не слыша ничего о верблюдах, начинал терять терпение, он успокаивал меня, повторяя самым спокойным и убежденным тоном, не допускающим никаких возражений: "келхеды, келхеды" (придут, придут). Но они все не приходили, а дорогое время уходило. Я с горечью предчувствовал, что мы таким образом сами накликаем беду на свои головы, так как весна все более и более вступала в свои права, а в жаркое время пустыня становится раскаленной печью. Тогда-ходжа снабжал меня тем временем ценными сведениями.
Так, однажды он сообщил мне, что жители Меркета долоны и, как по языку, так и по типу, те же кашгарцы; лишь некоторые слова у них различны. Но зато Тогда-ходжа находил, что жители Меркета очень не похожи на своих соседей нравом. Они жестоки, холодны и так злопамятны, что какая-нибудь пустячная ссора вырастает с годами в настоящую вражду. Религиозные постановления ислама соблюдаются строго.
Так, один человек в последний базарный день, пришедшийся в середине поста, поел до захода солнца. Его тотчас же арестовали, наказали палками и затем со связанными руками на веревке провели по всему базару, чтобы все могли смеяться и глумиться над ним вдоволь. На каждом углу базара ему предлагали вопросы: "Ты ел?" - "Да!" -- "А ты будешь еще так делать?" - "Никогда!" Иногда такому грешнику еще вымазывают сажей все лицо, прежде чем вести его по улицам.
21 марта я посетил базар. Он очень обширен, каждому товару отведено свое место. Раз в неделю, в базарный день, прилавки и лотки с товарами выносят из домов и расставляют на площадях перед ними. На площадках сидят также массы женщин и шьют. Женщины ходят здесь без покрывал, обыкновенно с непокрытыми головами, и носят свои длинные густые черные волосы заплетенными в две косы; иногда надевают также маленькие круглые шапочки.
Особенно любимое занятие их - искать друг у друга в голове, и часто видишь, как то одна, то другая уткнется головой в колени товарки. 22 марта наконец вернулся из Кашгара Магомет-Якуб с объемистой почтой, но без верблюдов. Итак, мы не подвинулись ни на шаг с начала месяца. Тут уж вступил в дело мой славный Ислам-бай. На следующий же день он отправился в Яркенд, решив, что не вернется без верблюдов.
Счастье еще, что метеорологические и астрономические наблюдения, привезенная почта и старый Тогда-ходжа помогали мне коротать время. Миссионер Иоганн, напротив, доставлял мне мало радости. Он принадлежал к числу современных болезненно религиозных людей, которые не допускают, чтобы истинное христианство могло уживаться с жизнерадостностью и хорошим настроением духа.
Вероятно, причиной таких взглядов являлось отчасти то обстоятельство, что он был обращенный в христианство магометанин; такие прозелиты часто становятся куда нетерпимее своих учителей. Вообще же он был малый услужливый, но, по-видимому, очень скучал.
Несколько дней спустя у меня сделалась мучительная опухоль в горле - "горкак", обычная здесь болезнь. Полосканье, по совету бека, теплым молоком не помогало, и бек предложил мне прибегнуть к содействию заклинателей - "пери-бакши". Я сказал, что не верю в такие фокусы-покусы, но что во всяком случае готов принять "пери-бакши".
В сумерках, когда комната моя освещалась только светом углей на шестке, ко мне вошли трое высоких бородатых мужчин в длинных белых покрывалах. У каждого было по барабану ("дуфф"), обтянутому крепкой телячьей кожей.
Они выбивали на барабанах дробь пальцами, ударяли по ним ладонью плашмя и колотили кулаками, производя в общем такой шум, что, я думаю, за версту было слышно. Они обрабатывали свои барабаны с необычайной быстротой, притом удивительно дружно. Так, после некоторого перебирания пальцами они все разом хлопали ладонью, а затем несколько раз равномерно ударяли кулаками, опять перебирали пальцами и т.д. без малейшего перерыва, не сбиваясь с лада.
При этом они то сидели, то вдруг, воодушевляясь своей своеобразной музыкой, вскакивали и пускались в пляс, то подбрасывали барабаны кверху и с треском ловили их. Каждый такой прием продолжался пять минут, и следовали они в известном порядке, что и обусловливало стройность исполнения. Для того же, чтобы обратить в бегство злого духа, надо проиграть весь мотив девять раз, и, раз заклинание началось, невозможно остановить заклинателей прежде, чем они доведут его до конца.
Услугами заклинателей пользуются, главным образом, больные женщины и родильницы, так как женщины куда суевернее мужчин. Заклинатель, входя в помещение, где находится больная, внимательно вглядывается в пламя светильника, по которому, как он говорит, он узнает, одержима ли женщина злым духом. Затем он начинает обрабатывать свой барабан в присутствии родных и друзей больной, толпящихся в помещении и за дверями.
Церемония этим не кончается. После того как отбит последний такт, заклинатель остается наедине с больной и накрепко вгоняет в земляной пол палку, верхушка которой обмотана привязанной к потолку крепкой веревкой.
Больная изо всех сил тянет за веревку, а заклинатель продолжает барабанить. Наконец ей удается оборвать веревку, и, значит, злой дух выгнан. Такую же силу приписывают соколам, почему и называют их "куш-бакши" (сокол-заклинатель). "Пери", или злые духи, боятся его. Рассказывают, что женщина во время родов видит, как вокруг нее вьются злые духи, причиняющие ей мучения; другой же никто не может видеть их, кроме сокола; его поэтому впускают в комнату, и он сразу изгоняет их.
Дело, вероятно, попросту в том, что как сокол, так и барабаны и веревка с палкой отвлекают внимание больной от ее страданий и она до некоторой степени забывает о них. 26 марта. Бек Ниаз держит на дворе суд и расправу, и иногда довольно громко. Сам он сидит около столба, подпирающего крышу галереи, и ведет допрос с ужасно строгим видом. Рядом, на площадке, сидит его "мирза" и записывает показания, вокруг стоят слуги и исполнители правосудия с длинными прутьями, а перед беком сами преступники.
Сегодня разбиралось несколько своеобразных дел. У одного человека было пять жен. Самая младшая, молодая, красивая, крепко сложенная женщина, взяла да бежала от мужа в Кашгар с другим. Бек уведомил кашгарские власти, женщину задержали и отправили обратно в Меркет. После того как женщина призналась в нарушении супружеской верности, бек дал ей две пощечины, и женщина принялась вопить.
В оправдание свое она могла сказать одно: что ей невмочь было уживаться с четырьмя другими женами. У нее был при себе нож, и бек спросил, для чего она его носит; на это женщина ответила, что решила умертвить себя, если ее принудят вернуться к мужу. В наказание ее отправили на некоторое время к мулле для исправления, а потом пусть с миром вернется домой.
Затем была приведена молодая женщина с окровавленным, исцарапанным лицом; ее сопровождал муж.
И эта бежала от мужа, но он сам поймал ее и жестоко расправился с нею. Многие свидетели утверждали, что у него при этом была в руках бритва, но он отрицал это. Чтобы заставить его признаться, бек приказал связать ему руки за спиной и подвесить за руки к ветке дерева. Виновный не замедлил сознаться. Тогда его сняли и угостили 40 ударами по мягким частям. Но так как он утверждал, что и жена била его по спине, то его раздели и, не найдя знаков, прибавили еще порцию.
Вообще правосудие в этом глухом углу вещь очень растяжимая. Если обвиняемый может хорошо заплатить, то он избегает наказания, а бек во всяком случае получает несколько тенег за труды. Если жалобщик не доволен судом, он может прибегнуть к высшей инстанции - ближайшему китайскому мандарину, которому бек и должен дать отчет. Китайцы вообще поступают умно, предоставляя туземцам самоуправление по местным законам и обычаям, установившимся еще в правление Якуб-бека.
Нарушения супружеской верности, однако, нередки и не особенно строго наказываются. Обыкновенно женщине вымазывают сажей все лицо, сажают на ослицу, лицом к хвосту, связывают ей на спине руки и провозят по всем улицам и базарам. Одноженство вообще правило; многоженство - редкое исключение. Женщина, вступившая в брак с китайцем или европейцем, считается оскверненной, и по смерти ее не хоронят на общем кладбище: труп жившей с тем, кто "ел свинину", может осквернить другие могилы.
"Калым" здесь также узаконен обычаем, как и у киргизов. Размеры его зависят от средств и положения жениха; уплачивают его родителям невесты. Богатый жених платит 2 ямбы (около 180 рублей). Бедный жених отделывается угощением и платьями невесте. Размер калыма определяют родители невесты по своему усмотрению; красота и другие физические достоинства невесты играют меньшую роль, нежели у киргизов.
Если молодые люди полюбили друг друга и хотят жениться, а родители не дают согласия, то парочка часто перебирается в другое селение. Через несколько месяцев они, однако, в большинстве случаев возвращаются к родителям и приглашают их к себе в гости, после чего все улаживается к общему удовольствию.
В другой раз беку пришлось судить двух людей, игравших на деньги. У одного из них была глубокая рана около уха и лицо все в крови. Оказалось, что он проиграл другому семь тенег и обещал добыть деньги на базаре, но выигравший требовал их немедленно.
Тогда проигравший выхватил нож и ударил себя в ухо, крича: "Вот тебе вместо денег!" Бек присудил выигравшего к хорошей публичной порке; другого же порка ожидала после того, как заживет рана. Выигрыш, разумеется, пошел в пользу бека.
XXI. В пустыню.
8 апреля наконец вернулись Ислам и Якуб. Больших хлопот и торгов стоило им купить в Каргалыке восемь отличных, тщательно выбранных верблюдов по 120 крон (около 60 рублей) за голову. Местные жители узнали о том, что верблюды нам необходимы, и подняли цены вдвое-втрое, что очень и затруднило покупку.
Кроме того, требовались именно верблюды, привычные ходить по пустыне, по песку, по жаре, без воды и корма. Поэтому люди мои не столько обращали внимание на наружный вид и общие достоинства верблюдов, сколько именно на указанные специальные качества. Утром я дал верблюдам имена и измерил их, опоясав туловище между горбами, чтобы знать потом, как отзовется на них странствование по пустыне.
Вот перечень их:
|
|
Возраст ... |
Объем туловища[*] |
|
Ак-тюя (белый верблюд) Богра (верблюд двугорбый) Нэр (самец) ... Баба (старик) ... Чон-кара (большой черный) Кичик-кара (маленький черный) ... Чон-сарык (большой желтый) ... Кичик-сарык (маленький желтый). ... |
8 лет ... 4 -"- ... 2 -"- ... 15 -"- ... 3 -"- ... 2 -"- ... 2 -"- ... 11/2 -"- ... |
2.37 2.35 2.25 2.28 2.23 2.22 2.30 2.14 |
Мало подозревали мы тогда, что лишь один верблюд Чон-кара переживет это путешествие. Правда, и Ак-тюя прошел через пустыню, но околел от изнурения. Это был славный белый верблюд, выступавший во главе каравана, позванивая колокольчиком с большим тяжелым железным языком. Богра, мой верховой верблюд, был удивительно статен, вынослив и кроток. Нэр был забияка, порывавшийся укусить или лягнуть каждого, кто подходил к нему.
Баба, самый старый из верблюдов, серой масти, пал первым. Остальные три верблюда были молодые резвые животные, которые долго отдыхали и теперь, видимо, охотно пользовались случаем поразмяться.
Все верблюды находились как раз в периоде линяния; густая теплая шуба сваливалась с них большими клоками, что очень безобразило их. Все были оседланы большими, мягкими вьючными седлами, набитыми сеном и соломой.
Ислам-бай купил также целую связку арканов (веревки из верблюжьей шерсти) для перевязывания вьюков и три больших караванных колокольчика. Верблюды стояли на привязи во дворе бека и отъедались - в последний раз в жизни - сочным сеном. Приятно было смотреть на своих собственных чудесных верблюдов, жевавших душистое сено, и видеть в их больших черных глазах выражение полнейшего благополучия.
Собаки наши, Джолдаш и Хамра, были, однако, другого мнения. Они, в особенности Джолдаш, терпеть не могли верблюдов. Последний лаял на них до хрипоты, кидался на них и был, по-видимому, очень доволен самим собой, если ему удавалось выхватить у них клок шерсти.
В Яркенде Ислам-бай нанял двух надежных людей. Один был Магомет-шах, 55-летний старик, с седой бородой, опытный вожак верблюдов; его одного только неукротимый Нэр и подпускал к себе, не кусая. У него были в Яркенде жена и дети; пустыни он не боялся ничуть и вообще был отличный, надежный человек.
Я, как сейчас, вижу его перед собой. Чисто философское спокойствие не оставляло его никогда; он продолжал сохранять свое хорошее расположение духа и какую-то добродушную усмешку вокруг рта и тогда, когда над нашим умирающим караваном спустились грозовые тучи несчастья. Даже когда он лежал в предсмертном бреду, глаза его светились тем же неземным спокойствием, а от высохшего коричневого лица веяло миром.
Другой - Касим-ахун, 48 лет, неженатый, уроженец Ак-су, проживавший в Яркенде, караван-баши по ремеслу. На нем лежала обязанность помогать в уходе за верблюдами. Роста он был среднего, крепкого сложения, с черной бородой, серьезный, никогда не смеялся, в обращении был ласков и задушевен, но нередко нуждался в напоминании о своих обязанностях.
Нам, однако, нужен был еще один человек, и бек Ни-аз нашел нам Касима-ахуна из Янги-гиссара. Он был одних лет с Магомет-шахом и шесть лет подряд хаживал весной дней на 10 - 14 в пустыню искать золота.
Всякий раз он брал с собой хлеба на вьючном осле и не заходил в пустыню дальше таких мест, где еще можно было дорыться до грунтовой воды. Звали мы его то Джолчи, то Кумчи (Пустынножитель) в отличие от другого Клейма. В Меркете, куда он переселился несколько лет тому назад, у него были жена и взрослые дети.
Ему отчасти были мы обязаны тем, что с нами случилось. Он был груб, горяч, и остальные товарищи, которыми он пытался командовать, скоро невзлюбили его. В силу своего знания пустыни он принял властный тон, особенно не жаловал Ислам-бая за то, что тот считался "караван баши", или предводителем каравана, а другие должны были подчиняться ему. Многие из жителей Меркета предостерегали нас насчет этого человека, говоря, что он несколько раз был наказан за воровство.
Но было уже поздно; мы, кроме того, нуждались в нем, так как он один во всем селении знал пустыню по опыту. Кроме верблюдов и собак, мы брали с собой трех овец, десять кур и петуха, который будил нас по утрам. В первые дни мы всегда находили по одному, по два яйца в куриной клетке, возвышавшейся на одном из вьючных верблюдов, но, когда у нас оказался недостаток в воде, куры перестали нестись.
Петух был большой живчик и весельчак; ему не нравилась езда на верблюде, и он во время пути всегда ухитрялся высвободиться из клетки. Постояв с минуту, раскачиваясь на верхушке, он с громким криком слетал на землю. На бивуаках кур всегда выпускали погулять, и они очень оживляли наш лагерь в пустыне, разыскивая в песке брошенные им зерна.
9 апреля были сделаны последние приготовления. Пара мешков с заказанным заранее хлебом были увязаны, четыре железных резервуара наполнены свежей, речной водой. В них входило: 80, 86, 87 и 122 литра да в бурдюки 80 литров, итого 455 литров, которых должно было хватить на 25 дней пути. Эти продолговатые четырехугольные резервуары, употребляющиеся для перевозки меда из Индии в Яркенд, помещаются в крепких деревянных решетчатых ящиках, чтобы предохранить тонкое листовое железо от пробоин.
В ящики люди насовали травы и тростника, чтобы вода не так скоро согревалась на солнце. В заключение несколько слов о самом плане путешествия. Пржевальский, Кэри и Дальглейш были первыми европейцами, видевшими (1885 г.) кряж Мазар-таг на левом берегу Хотан-дарьи.
Первый пишет об этом так: "Через три небольших перехода (от Тавек-кэля) вниз по Хотан-дарье мы достигли того места, где в восточный берег описываемой реки упирается обрывистым мысом невысокий хребет, или, правильнее, горная гряда, известная туземцам под именем Мазар-тага.
Эта гряда в восточной части имеет не более VA - 2 верст в ширину, при высоте около 500 футов над окрестностями, и состоит из двух параллельных резко по цвету между собой различающихся слоев: южный - красная глина с частыми прослойками гипса, северный - белый алебастр. В тех же горах, верстах в 25 от Хотан-дарьи добывают, как нам говорили, кремень, который и вывозится на продажу в Хотан.
Описываемая двухцветная гряда уходит из глаз в песчаную пустыню, заворачивая притом к северо-западу и повышаясь немного к средине, и тянется, по словам туземцев, до укрепления Марал-баши, на реке Кашгарской. Растительности в Мазар-таге нет вовсе; притом горы эти снизу засыпаны до половины песком; обнаженная же их часть, в особенности красная глина, сильно разрушается".
Сообщения туземцев дали Пржевальскому повод нанести на свою карту хребет гор, тянущихся наискось поперек пустыни. Ошибка эта вполне естественна, так как Пржевальский слышал, что около Марал-баши тоже находится кряж Мазар-таг, вследствие чего и мог предположить, что этот кряж является продолжением хотан-дарьинского Мазар-тага. Кэри осторожнее; он нанес на свою карту Мазар-таг лишь на таком протяжении, на каком его видно с реки.
Я и полагал, что если мы из Меркета направимся к востоку или к северо-востоку, то рано или поздно наткнемся на Мазар-таг. Вместе с тем я разделял мнение туземцев, что мы найдем у подошвы кряжа подветренную сторону, где песок не накопляется и где нам удастся делать ежедневно большие концы по твердому и голому грунту, найдем источники и растительность, а также, быть может, следы древней цивилизации.
Путь по прямой линии через пустыню занимает, согласно имеющимся картам, протяжение в 287 километров, или около 290 верст, и, если бы мы могли проходить хотя бы по 20 верст в день, на всю экспедицию пошло бы не более 15 дней. Таким образом, мы брали с собой воды более чем достаточно.
Такие расчеты очень подбодряли нас, и мы смотрели на всю экспедицию, как на пустячное дело. В действительности путешествие заняло 26 дней; путь оказался вдвое длиннее. 10 апреля еще задолго до восхода солнца на дворе начались суетня и движение. Люди вытащили весь наш багаж и ящики с продовольствием, чтобы приготовить равные по весу парные вьюки для верблюдов и перевязать веревками.
Затем вьюки были расставлены попарно в таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними прошел верблюд. Последних заставляли ложиться между двумя вьюками, и вьюки крепко привязывались с обеих сторон к вьючному седлу. После того как верблюд вставал, вьюки, ради осторожности, перехватывали еще веревкой, обвивавшей накрест туловище животного, и закручивали узел, вставляя в него палку.
Снаряжение наше было очень сложное; продовольствия мы брали на несколько месяцев, особенно риса и хлеба, консервов, сахару, чаю, зелени, муки и проч. Затем взяты были зимние одежды, тулупы, войлока, так как у меня было намерение от Хотан-дарьи направиться в Тибет. Кроме того, я брал с собой все свои приборы, два фотографических аппарата, около тысячи пластинок, несколько книг, номера шведской газеты за целый год - я каждый вечер намеревался прочитывать по одному нумеру, - походную кухню, посуду, и металлическую и глиняную, три ружья, шесть револьверов, боевые припасы в двух ящиках и много разных мелочей.
Так как мы взяли еще запас воды на 25 дней, то верблюды наши были навьючены довольно тяжело. Во время вьюченья я определил первый базис для измерения расстояния: 400 метров мой Богра проходил в 5литров в минуту.
Определять базис приходилось ежедневно снова, так как грунт то и дело менялся, а один и тот же конец по более или менее глубокому песку брал различное время. 10 апреля явилось знаменательным днем в летописях Меркета. Весь наш двор, соседние улицы и забор были усеяны народом, желавшим присутствовать при нашем выступлении в путь. "Не вернуться им больше! Верблюды слишком тяжело навьючены, им не пробраться по глубокому песку!" - раздавались голоса.
Такие зловещие предсказания, однако, ничуть не пугали меня. Я сгорал желанием поскорее выступить, и впечатление от дурных пророчеств изгладилось совершенно, когда индусы в самую минуту выступления бросили мне через голову несколько горстей "да-цянь" (китайская бронзовая монета), крича: "Счастливый путь!"
Верблюды были связаны по четыре вместе веревкой, которая была привязана одним концом к палочке, продетой сквозь носовой хрящ одного верблюда, а затем завязана узлом на хвост шедшего впереди верблюда так, что, если животное падало, узел развязывался сам собой.
На другом конце палочки, продетой в носовой хрящ животного, находится шарик, чтобы она не выскочила. Четыре молодых верблюда открывали шествие, затем ехал я на Богре, за нами шли Баба, Ак-тюя и Нэр. Богру все время вел Магомет-шах, так что мне нечего был заботиться о том, как идет животное, и я мог сосредоточить все свое внимание на компасе, часах и на наблюдениях за изменениями грунта и рельефа.
Ислам-бай отлично приладил вьюк на моем верховом верблюде. Богра нес оба ящика с наиболее хрупкими приборами и вещами, которые мне надо было иметь под рукой на каждом бивуаке. Между горбами и поверх обоих ящиков были настланы кошмы, ковры и подушки, и я сидел точно в кресле, спустив ноги по обе стороны переднего горба.
Когда все было готово, я простился с беком Ниазом, щедро вознаградив его за гостеприимство, с миссионером Иоганном и Хашимом. Миссионер еще в Лайлыке поговаривал, что боится следовать за мной в пустыню; тут же, в виду последних приготовлений, мужество окончательно покинуло его, и он во второй раз оставил меня в самую серьезную минуту. Со всей своей показной благочестивостью он, очевидно, страдал недостатком истинной веры, без колебаний поручающей себя Богу.
Какая разница в сравнении с Ислам-баем, идеалом самоотвержения и преданности! Этот за все время ни разу не поколебался последовать за мной куда бы то ни было, даже, когда я кидался в опасности, которых благоразумие советовало бы избегать.
Признаки вступавшей в свои права весны давали себя знать за последние дни все больше и больше. Температура медленно, но правильно подымалась с каждым днем, и минимальная температура держалась куда выше нуля. Днем солнце припекало сильно, весенние ветры так и шумели, поля были засеяны и затоплены, мухи и другие насекомые жужжали в воздухе. И вот в это роскошное в Азии время года, время надежд, мы выступили в поход в область, где жизнь окована тысячелетним сном, где каждый бархан является могильным курганом; в сравнении с царящей там жарой самая жестокая зима могла бы казаться нам улыбающейся весной.
Спокойно, величественно, с высоко поднятыми головами выступали наши верблюды длинной вереницей по узким улицам селения, между густыми толпами народа. Торжественное настроение охватило всех, и толпа молчала, словно на похоронах. Вспоминая теперь наше выступление, я и не могу сравнить его ни с чем иным, как именно с погребальным шествием. Я, как сейчас, слышу мерный, глухой, зловещий звон караванных колокольцев - настоящий похоронный звон.
И в самом деле, смерть ожидала большинство участников нашего похода, смерть в далекой пустыне, тихая безмолвная могила в вечных песках! Местность была ровная. Дома селения разбежались между многочисленными тополями, хлебными полями, рощами, садами и арыками. Шли мы спокойно с полчаса, как вдруг случилось происшествие. Два самых молодых верблюда точно взбесились, разорвали веревки, сбросили с себя вьюки и бешено понеслись по полю, подымая пыль столбом.
На одном из верблюдов были навьючены два резервуара с водой, и один дал течь, но у самой крышки, так что беду легко было поправить. Беглецов скоро изловили и навьючили снова. Их повели затем отдельно - в услужливых руках недостатка не было, так как до окраины селения нас сопровождало до сотни всадников.
Немного погодя вырвалось два других верблюда; часть вещей рассыпалась, ящике порохом съехал набок. Магомет-шах сказал мне, что верблюды после долгого отдыха всегда немного бесятся, а после нескольких дней форсированного марша опять присмиреют, как ягнята.
Ради осторожности мы и решили, что пока каждого верблюда поведет один из людей. Как и всегда, в первый день пути случилось немало разных непредвиденных задержек. То оказывалось, что левая половина вьюка перевешивает правую, и приходилось ее облегчить, то замечали, что какой-нибудь мешок с рисом грозит выскользнуть из-под веревки, и надо было перевязать вьюк, и т.д. Но на другой день, когда, пользуясь опытом предыдущего дня, уравновесили все вьюки, навьючили наиболее дорогие предметы и, главное, резервуары с водой на самых смирных из верблюдов, все пошло, как по маслу.
Мне, восседавшему на значительной высоте над уровнем почвы, открывался чудесный вид во все стороны. Сначала от езды на верблюде кружится голова, но затем скоро свыкаешься с этим равномерным покачиваньем, колыханьем. На меня они не действовали, но человеку, подверженному морской болезни, они, наверное, показались бы очень неприятными.
Почва состояла сначала из тонкой, подвижной пыли, частью с отложениями соли, затем пошел один песок, образовывавший маленькие низкие барханы, дальше опять пошла растительность - камыш и тополя. Тут мы и сделали привал на краю оврага.
В полчаса верблюды были развьючены и связаны в круг, чтобы не дать им лечь, - иначе они становятся тяжелыми на подъем. Часа через два их пустили бродить на свободе в густой заросли камыша. Бивуак наш вообще вышел очень живописным. Я обновил свою палатку, разбитую под тополем; это была красивая индийская офицерская палатка, которую подарил мне мистер Мэкэртней. В этой палатке умер молодой лейтенант Дэвисон на пути с Памира в Кашгар.
С тех пор она успела проветриться, да к тому же я не суеверен. Земляной пол в палатке был устлан пестрым ковром. По стенам были расставлены мои сундуки, ящики с приборами, фотографические аппараты и моя постель. Остальной багаж, мешки и резервуары с водой были размещены на воле.
Люди развели огонь, вокруг которого и уселись варить обед: рисовый пудинг и яйца; рису и яиц было у нас запасено вдоволь. Овец пустили пастись, а куры чувствовали себя, по-видимому, совсем как дома, роясь в отбросах у костра.
Собаки получили по куску мяса и принялись гоняться друг за другом. Словом, картина была самая оживленная. Когда стали рыть колодец, земля скоро сделалась влажной, и на глубине 108 сантиметров уже показалась вода. На вкус вода была солоновато-горькая, но собаки и овцы пили ее с жадностью.
Верблюдам же дали напиться только на следующее утро, незадолго до выступления. Этой же водой воспользовались для варки яиц, для стирки и мытья посуды; запас пресной воды с самого начала приходилось беречь да беречь. Магомет Якуб, провожавший нас до этого первого лагеря, сделал нам сюрприз - преподнес пару медных кувшинов с речной водой, так что все люди могли напиться досыта, не дотрагиваясь до нашего запаса.
Подкрепившись продолжительным, спокойным сном, я проснулся на рассвете. Погода оказалась неблагоприятной. Норд-ост так и выл, воздух был насыщен пылью; из пыльного тумана выступали только ближайшие предметы; остальное все тонуло в серой мгле. Верблюды артачились во время вьючения.
Растительность снова исчезла, и мы запутались в лабиринте барханов. Мы пытались по возможности обходить их, но приходилось и перебираться через некоторые вершины; взбираясь на один из гребней, два верблюда, несшие резервуары с водой, упали, но, к счастью, удачно, на колени передних ног. Пришлось все-таки развьючить их и потом навьючить снова. Спускаются же они с таких гребней, скользя и тормозя задними ногами.
Около полудня мы заблудились между такими высокими барханами, что пришлось сделать большой крюк к северу, чтобы из них выбраться. Джолчи объяснил, что, если бы мы, пошли к востоку, мы все равно принуждены были бы вернуться назад, так как в ту сторону тянется нескончаемый "чон-кум" (большой, глубокий песок). Дневной переход и образовал извилистую дугообразную линию вдоль края "чон-кума".
Северо-восточный ветер продолжался весь день, небо хмурилось, и в воздухе чувствовалась сырость. В сумерки мы сделали привал, пройдя за день 21,3 километра. Лагерь разбили на этот раз на ровном, твердом бархане, на сухом чистом грунте.
Поблизости нашлись несколько засохших тополей, которые пошли на топливо, и чахлый камыш, пригодившийся для верблюдов. Они вспотели от продолжительной ходьбы, и их с час водили взад и вперед, чтобы они остыли понемногу и не простудились.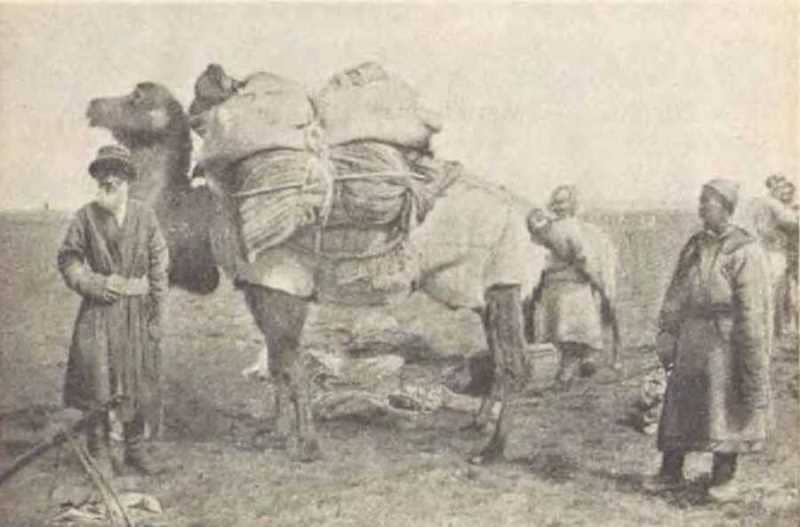
12 апреля мы сделали 23,7 километра вдоль края "большого песка", отпрыски которого направлялись к северу. Временами песок перемежался узкими степными участками с редко разбросанными твердыми, как стекло, высохшими травяными кочками, которые с каким-то звоном разлетались вдребезги, когда до них дотрагивались.
Твердый, ровный, песчаный грунтудобнее всего для ходьбы; но иногда такой грунт покрыт слоем пыли, в которой резко отпечатываются следы верблюдов. Слой этот мягок, как хлопок, и в некоторых местах так глубок, что верблюды тонут в нем по колени.
Случалось также, что ровный песчаный грунт был покрыть тонкой коркой соли, хрустевшей под ногами. Медленно, важно шествовали верблюды, вытягивая свои длинные шеи, чтобы достать на ходу травяные кочки; они точно предчувствовали, что им предстоит пост. Когда был разбит третий по счету лагерь, двое из людей, по обыкновению, немедленно принялись рыть колодец. Вырыта была яма, глубиной в 178 сантиметров, а воды все еще не было, и больше рыть они не могли.
Часа через два вода, однако, показалась сама собой, и на дне ямы образовалась небольшая лужица. Собаки и куры следили за рытьем колодца с особенным вниманием; им всегда очень хотелось пить, и они знали, в чем тут дело.
Пока, следовательно, все шло хорошо, и мы могли беречь свой запас воды. Запас корму для верблюдов тоже оставался нетронутым; верблюды обходились камышом и солоноватой водой из колодцев. Собак кормили хлебом, кур зерном и яичной скорлупой. В первый день снесли яйца три курицы, во второй две, в третий одна. Потом яйца стали появляться все реже и реже, но у нас был взят с собой большой запас яиц в плетушке с рубленой соломой.
День был теплый. Собаки тщетно искали воды, суясь носом в каждую ямку или ложбинку, похожие на те, в которых люди обыкновенно рыли колодцы. За неимением лучшей защиты от солнечных лучей они искали тени под каждым тополем, мимо которого мы проходили, сгребали лапами верхний слой горячего песку и растягивались на нижнем, еще сохранявшем прохладу с ночи.
Ислам-бай ехал на первом верблюде, которого вел Джолчи, наш лоцман в этом песчаном море. Но так как Исламу-баю с верблюда было виднее, то он часто и подавал первому советы и предлагал другое направление.
Это сердило необузданного "сына пустыни", и он несколько раз в гневе швырял повод, бросался ничком на песок и говорил, что пусть в таком случае Ислам и ведет караван. На ночевке между ними разыгралась серьезная ссора. Джолчи пришел ко мне в палатку и сказал, что хочет вернуться, так как Ислам все "учит" его и, кроме того, скупится на хлеб и на воду. Он, однако, опешил, когда я спокойно выразил свое согласие, поставив лишь одно условие - возвращение месячного жалованья в 100 тенег, полученного им вперед.
Золотоискатель принялся смиренно просить прощения, и оно было ему дано на условии во всем слушаться Ислама. Я боялся, что такие ссоры чем дальше, тем будут чаще, так как однообразие и уединение портят настроение. Но все с тех пор обходилось мирно. Джолчи молчал, затаив злобу на Ислама, и злоба эта все росла втихомолку. Он шел всегда отдельно, не разговаривал с другими людьми и даже спал один в отдалении от них.
К бивуачному костру он подкрадывался тогда лишь, когда другие ложились отдыхать. Остальные люди подозревали его в том, что он нарочно вел нас по ложному пути. В таком случае он и сам попал в яму, которую рыл другим, так как и он погиб от жажды в пустыне.
Вода показалась на глубине 1,15 метра. Собакам так страшно хотелось пить, что они пытались было спуститься в самый колодец, и пришлось их привязать. В первый день Пасхи 14 апреля мы прошли только 18,5 километра. В одном месте подветренная сторона барханов была серо-стального цвета; оказалось, что песок здесь был покрыт тонким налетом слюды. Кроме того, мы убедились, что тополя могут расти только в защите барханов. Где исчезали эти последние, пропадали и тополя.
Затем мы достигли настоящей бесплодной пустыни, с плоским, твердым, бурым грунтом и низкими барханами, торчащими, как чурбаны. Они казались желтыми на буром фоне грунта, часто усеянного гальками.
Во время пути мы в первый раз наткнулись на следы дикого верблюда. По крайней мере, так утверждал Джолчи, но я не вполне был уверен в этом. Дальше такие следы попадались часто. Впрочем, мало вероятия было, чтобы заблудились в пустыне домашние животные.
Видели мы также лошадиные следы и помет, и Джолчи уверял, что в этой части пустыни водятся дикие лошади. Мы остановились на вершине одного бархана, чтобы рассмотреть в бинокль стадо, пасшееся в камышовой заросли к северу, но как только мы остановились, стадо скрылось по направлению к северу, не дав нам времени определить - лошади это или антилопы.
Собаки были очень беспокойны и бежали далеко впереди каравана. Раз они совсем пропали на четверть часа и вернулись мокрыми по брюхо - видно, нашли воду. Пройдя 18,5 километра, и мы наткнулись на лужу.
Я попросил Касима попробовать, какова вода на вкус. "Сладкая, как мед", - ответил он, хлебнув здоровый глоток. Мы и расположились тут бивуаком. Люди, собаки, овцы и куры - все спешили утолить жажду, донимавшую всех в такую жару.
Вода была ключевая, прозрачная, совершенно пресная, скоплявшаяся в небольшой впадине. Здесь водилось множество водяных пауков и жуков. Последние кружились в воздухе над водой, и куры устроили настоящую охоту за ними.
Мы зарезали с обычными церемониями первую овцу, и собаки поживились внутренностями и кровью. Приятное местоположение лагеря манило отдохнуть здесь денек, в чем нуждались и люди и животные. Все спали долго, а затем день прошел в разных делах. Резервуары долили ключевой водой, белье выстирали, седла и упряжь привели в порядок.
Воды мы могли пить, сколько душе хотелось, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. Верблюды и собаки так усердствовали, что видно было, как бока у них раздувались от воды. Куры снесли в этот день отдыха четыре яйца.
Собаки лаяли всю ночь и кидались по тому направлению, откуда мы пришли и где видели следы диких верблюдов. Вероятно, обитатели пустыни подходили ночью напиться, но останавливались в подобающем расстоянии, видя, что место занято.
16 апреля прошли 24,7 километра. Песчаные холмы в 5 метров высоты часто сменялись высохшими степными участками, поросшими камышом. Тростник хрустел и распылялся под ногами верблюдов. Миновали два водоема, похожие на первый.
Все три лежали на прямой линии и, должно быть, являлись остатками разливающегося в половодье рукава Яркенд-дарьи. 17 апреля мы завидели на северном горизонте очертания довольно высокой горы, рисовавшейся вдали тенью, похожей на облако. Час за часом ехали мы в этом направлении, а гора все как будто оставалась в том же расстоянии. Пройдя в общем 28,4 километра, мы разбили лагерь в тени двух густолиственных тополей.
Мы основательно рассудили, что рыть здесь колодца нет надобности, так как неподалеку должна быть вода. К северу шел довольно густой тополевый лесок. Мошки, мухи и ночные бабочки так и реяли в воздухе. Бабочки вечером сотнями вились около моей свечки.
Источник и фотографии:
Свен Гедиин (Хедин). «Памир - Тибет - Восточный Туркестан». Путешествие в 1893 - 1897 годах. (En färd genom Asien). Перевод со шведского Анны Ганзен и Петра Ганзена.







