Вы здесь
Замечания на третью часть описания киргиз-казачьих орд (А.И. Левшина).
«Возможно, это одна из первых рецензий Ш. Уалиханова, написанная в 1853 году во время учебы в Омском кадетском корпусе, когда Шокан и его однокурсник Григорий Потанин зачитывались Палласом и Левшиным и другими известными путешественниками и учеными. В рецензии отмечены лишь некоторые ошибочные взгляды и суждения историка. Рукописная копия хранится в архиве профессора В. В. Григорьева в Центральном государственном архиве литературы и искусства г. Санкт-Петербурга.»
На странице 9, внизу, в выноске, слово акбура переведено неверно: акбура значит нелегченный (т. е. некастрированный) белый верблюд, а не белый волк, что по-кайсакски будет акборе, или каскыр.
Стр. 11. Кайсаки ходжей не относят к белой кости, а уважают их наравне с султанами, как лиц духовных, строгих исполнителей предписаний шариата, и как потомков пророка. Вообще кайсаки очень уважают людей грамотных.
Стр. 31. Кроме сластолюбия, заставляет киргиз предпочитать калмычек своим женщинам еще то, что будто бы через сие смешение родятся хорошие дети.
Стр. 42. Кайсаки зимою для питья употребляют напиток, приготовленный из муки, разведенной горячею водою, сквашенной в кадушках, и именуемый коджою; для улучшения вкуса еще прибавляют молоко. Саумал есть не вполне скисшее кобылье молоко.
Стр. 47. Девушки прежних конусообразных шапок не носят теперь, а обвертывают голову разноцветными платками, опуская один конец на спину. Замужние женщины плетут волосы только в две косы, которые в концах соединяются и опускаются по спине.
Стр. 46. Этот головной убор, называемый саукелою, женщины носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках и то в продолжение четырех или пяти лет.
Стр. 52. Два киргиз-кайсака, которых А. И. Левшин спрашивал: «Какой они веры?» - вероятно, (те) не вникли как-нибудь в смысл вопроса и озадаченные новизною его не нашлись что отвечать, кроме легчайшего в подобных случаях: «Не знаю».
Всякий кайсак знает, что он последователь Магомета и что он мусульманин; быть может, он не понимает смысла этого слова, но все-таки оно составляет его гордость перед иноверцами. С самого детства он то и дело слышит, что он мусульманин, а «все прочие, кроме мусульман, кафиры, осужденные богом на вечное наказание на том свете». После этого можно ли допустить, что кайсак не знает своей веры?
Стр. 52 и 57. Шайтан есть олицетворение всех более или менее пагубных страстей в нас, управляющих почти всеми нашими поступками и до того сильных и властных под нами, что помраченный ими ум и волнуемый ими человек нередко впадает в самые ужасные грехи.
Хотя преобладание сих страстей над вами признает каждый из вас, во мы не даем ни какого олицетворения, а кайсаки говорят, что это - шайтан - ослушник божьей воли и вечный враг мусульманства, который всякое мгновение старается совратить правоверного с пути истины.
Следовательно, они, кайсаки, никак не признают шайтана за божество, никогда ему не поклоняются и против нечистого его замысла всегда вооружаются различными молитвами. Для умилостивления его никакой жертвы ему не приносит и до того строги кайсаки в отношении к шайтану, что, даже бросая объедки и кости, они произносят «бисмилла», т. е. во имя бога, в той уверенности, что «бисмиллованные» кости не доступны злому и нечистому духу.
Стр. 65. А. Левшин слишком увлекся невежеством описываемого им народа, говоря, что колдовство, обман и ворожба составляют часть религии киргиз-кайсаков; они не суть часта религия, а только суеверие, которое есть у народов всех вероисповеданий.
Кайсак верит колдовству, гаданию и прочим в одном случае: именно, когда предсказывают ему что-нибудь доброе или хорошее; поэтому он всегда предсказывает доброе, а как из тысячи предсказаний хоть одно да сбывается, то этим только и поддерживается значение колдунов, ворожеев и т. д.
Стр. 76. Чувствительность в кайсаках и участие, принимаемое ими в несчастии ближнего, стоят внимания и похвалы. Можно сказать, что это единственная добродетель, которую нужно искать в кайсаках.
Участие сие видно из следующего: нищий, куда бы он ни пришел, в кибитку ли богача или в хижину бедняка - везде ему приют, везде выражают ему сострадательность и не только словом, но всегда чем-нибудь более пли менее существенным; из кибитки первого выходит он с какою-нибудь да тряпицей, а у последнего напьется по крайней мере или наестся тем, чем тот богат.
Словом, нигде и никогда но говорят ему и не отделываются от него голым пожеланием: «бог подаст!». Кроме врожденной чувствительности, кайсака заставляет быть сострадательным еще то понятное всякому опасение сегодня или завтра обнищать самому через баранту или падеж, столь частые в степи.
Взаимная друг другу помощь, оказываемая кайсаками в последнем случае, достойна подражания и просвещенному европейцу. Потерпевшие от баранты или падежа пользуются неотъемлемым правом идти к другим своим родовичам со смелым требованием, так называемого жлу, т. е. вспомоществования, следующего со всего благополучно пребывающего общества, которое или из сострадания или побуждаемое каким-либо иным чувством действительно делает складчину в пользу первых.
Короче сказать, право на требование жлу для кайсака столь же священно, сколь священно для него право на кунакасы, т. е. бесплатный обед или ужин, следующий всякому страннику.
Стр. 94. При обрезании родители назначают мальчику в его собственность некоторое количество скота, которое составляет его инчу; впрочем он при разделении наследства отца имеет право требовать себе часть наравне с прочими наследниками.
Стр. 98. Не совсем верны справки А. Левшина о ценности кайсакских жен, (которые) вызывают сказать ему в возражение, что величина калыма зависит и определяется богатством невесты или вообще большим или меньшим ее значением в свете, а не от того: первую или вторую жену берет кайсак.
Источник:
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 198 - 200.
Комментарии к "Замечания на третью часть описания киргиз-казачьих орд (А.И. Левшина)."
Печатается по тексту ССВ, т. 3, с. 39 - 41. Рукописная копия хранится и ЦГАЛИ (ф. 159, оп. 1, д. 179, лл. 229 - 232) и находится в группе материалов, принадлежащих Ч. Ч. Валиханову. Она хранится в архиве проф. В. В. Григорьева (ф. 159) (см. легенду к заметке «Зимние кочевки волостей Каркаралинского внешнего округа»).
По-видимому, это одна не первых рецензий Ч. Валиханова, написанная еще на последнем курсе кадетского корпуса (1853 г.), когда Ч. Валиханов и Г. Потанин зачитывались Палласом, Левшиным и другими известными авторами.
рецензии отмечены лишь фактические промахи А. И. Левшина. Малоопытный юноша только вскользь говорил об ошибочности некоторых взглядов и суждений почтенного историка, труды которого уже в ХIX веке стали библиографической редкостью.
Песни Урака.
«Казахский текст арабским шрифтом представляет собой автограф Уалиханова с его же поправками и дополнениями. Русский перевод песен Урака сохранился в двух списках - черновой автограф и авторизованная копия. Точная дата работы неизвестна, приблизительно она относится к 1854 - 1855 г.г.»
Через высокие, высокие горы верблюд пройдет, принатужась. До дальней точки добежит быстро Каракула мой, подобно тощему оленю, расстилаясь и изгибаясь; На этом-то Каракуле понесется богатырь, подобный грозному Ураку.
Когда придет Азраил, когда настанет час смерти, о молодцы! оставит тогда Вас единая пылинка - душа. Птица божья - голубь, по высоте небесной парит для пищи; Полосатую цветную камку накинув, рыщут храбрые за добычей;
Вот почему, почему م تم زوجون تم زوجون через моря бродил По морям бродил, я, ища добычи. Был равен я с низшими себе, не равен с равными себе. Смотрел ли я в свою юрту, нет у меня ее украшения, полной черной сабы с кумысом.
Посмотрел ли на длинные ряды в кочевке: не видел я своих рядов. Сидел я дома не печален, выходил на свет я угрюм. Тогда-то снял я меч обоюдоострый, висевший в юрте, встряхнулся и опоясался;
Серкесана взял в повод и Тельсары тоже. Серкесан мой не в теле, Тельсары мой без икр. Нарезав (кубарчина), на песке растущего, я сделал себе плот и перешел большую реку. И дальнего врага против ветра обходил, и у дальнего врага, угнав огромные многопегие стада, сделал свое богатство.
Владельцам стада нет прихода, если бы и пришли, без драки нет отдачи (скота). О! Молодцы, молодцы! нагие отправляйтесь в наезды; В этом обманчивом мире до предопределения нет смерти.
* * *
(Не пугайте), что вас из канклинцев шесть,
Не делайте насилие Ураку:
Если он раз войдет в гнев - он бешен,
Вынет он саблю - смерть повсюду.
* * *
Чтобы, длинно извиваясь, кочевать, хорошо, если есть высокие хребты гор. Если есть высокие горы, хорошо, чтобы по ним тянулась волнующаяся цепь верблюдов; чтобы вести волнующуюся цепь, хорошо, если есть старушка-мать; если она есть, хорошо, если есть дети копьеносцы; если есть дети копьеносцы, хорошо, если их пять пли шесть, если нет того, то лучше, когда нет плода, нежели зелень. О! Лучше было единородная моя, злосчастная голова не была бы вовсе на свете.
* * *
Карабатыр говорит:
Если хочешь, то буду говорить я и скажу тебе, Урак:
1. О далеких маджид и торкоманах и грузинах;
2. Глубоко лежащих башкирцах;
3. Высокобашенной Москве;
4. Мохнаторотых русских;
5. Хохлатоголовых калмыках;
6. Дикоговорящпх чурчутах - я одному себе обратил.
Если ты неверный, - стрелы обращаю, м-лим, - душу мою к тебе располагаю. Когда мне было 12 лет, стрел-бегунцами владел, десять тысяч рати я был голова. 18 лет когда мне было (подобно Булаю, сыну Есена, подобно Джолаю, сыну Эсеке), имя Карабатыра повсюду пустил и славил; подобно баранам после доения, заставил блеять (и тогда) беспечно лежащего Урака, под пояс пнувши, разбудил; Сын Алия Урак! Когда и где будучи со мной был равен?
Ответ Урака:
Я, если хочешь, скажу, Карабатыр, тебе, скажу я твой корень и происхождение скажу. Ты был из города Машакр, выбежавший единодомный выходец (сарт). Отец твой был простой человек, хоть давшего был слуга, мать твоя была простая бедная женщина и рабыня всякого, давшего деньги.
Каракуля мой без холки, не в теле и молодец без скота - богатства. Но божия милость велика, день, когда дает мне богатство, -неизвестно. Но дни божия (может) Каракула (мой) будет в теле. Если (захочет) поищет, мирзе, подобному Ураку, вражие табуны найдутся.
(У моего) Каракула холка с горсть, грознородившемуся Ураку. Раба Матрушки сын через скот свои сравнялся. Сын богача на богача похож, на невязанного жеребенка похож, раба сын на раба схож, на собаку с отрезанными ушами схож.
После этого дня этот праздник твой на драку собак будет схож. Хвалебные песни своей сабле. При зажигании угля 80 учеников устали. Для раздувания (меха) богатыри собирались. Ковку не выдержав, 90 учеников измучились.
При погружении (закалке) и огромные озера иссушились. От блеска его луна за тучи укрылась и глаза под веки бежали. В ножны - гром, вынул - молния. Золото -эфесный сверкающий булат. О! Молодцы, молодцы, в эти слова вникните и единорожденного Урака в товарищи примите.
Источник:
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 205 - 207.
Тенкри (бог).
Огонь почитается за аулие (святой)... Проклятие... (в рукописи оставлено место, очевидно, для казахского слова каргыс – проклятие). В огонь нельзя плевать, нельзя наступать на очаг. Невеста, поступая в новое семейство, должна войти в юрту отца (мужа), принести в жертву огня ложку масла (по-казахски: Отка, май кую), делает салем (преклонение колена) и бьет головой (падает навзничь), приговаривая: «аруах разы бол сын» - аруах (дух предков), будь доволен!
Во время горения жертвы мать или кто-нибудь из женщин, нагревая ладонь на огне, водит по лицу новобрачной, и новобрачная отдает в честь огня халат, который берет хозяин (отец мужа) юрты, как владелец очага, и заставляет ее сесть на баранью шкуру, говоря при этом: будь мягка, как кожа.
Для того, чтобы дать джан (присягу) (то есть жан беру - принять присягу, клясться душой), разводят в двух местах огонь, проводят между этих двух огней и заставляют целовать дуло ружья, из которого убит человек.
Лечат огнем так: из семи частей тела скота вырезывают куски, бросают в огонь и греют больное место (преимущественно в ревматизмах). Очищают от болезни в этом жертвенном огне, бросают в огонь жестяной ковш, раскаляют его до красна, потом кладут в него масло и синюю тряпку; когда это загорит, то подносят его под самый нос больного и наливают холодную воду - выходит ужасный пар.
Способ лечения называется джелаушук (искажение переписчика, точнее: джелушик - заклинание ветром). Когда увидят новую луну, то три раза прискакивают и три раза делают поклон, потом срывают траву и, принеся домой, бросают в огонь.
Арвах - дух предков, во всех трудных житейских случаях обращаются к ним, говоря: «аруахи, держите меня за руку и поддерживайте под мышки» (по-казахски: Аруак, колдай кор, колтыгымнан жебей кор) и приносят жертву; из коров, такую корову: с рогами наподобие луны и копытами наподобие аша (Ай муйизди, аша туякты) (юрту поддерживает); из баранов - белого с полоской на лбу (бозкаска) в белого с желтой головой, синего барана с ушами наподобие баурсаков - с раздвоенными ушами и двумя зубами, и совершенно белого, как снег, с полоской на лбу - и также первенца в стаде.
Если пожалеют первенца, то вымазывают слюной обещанного животного голову другого барана и приносят в жертву. Когда умирает человек, то его аруаху - духу - зажигают по одной свечке каждый день до сорокового дня, или только четыре дня.
Свечи ставят у правой стороны порога. Потому, (что) полагают, что до сорока дней дух умершего посещает свою юрту и узнает о расположении детей; для того каждый день до зажжения свечи в сумерки отворяют дверь, наполняют одну чашку кумысом и в дверях постилают белую кошму, готовят прием для покойника.
Все присутствующие в юрте, прочитав коран, выставляют чашку аруаху и зажигают свечку. При выносе покойника говорят: «от бога целым телом далек» и обводят около него домашнюю утварь, съестное.
Земля не имеет почтения, не ходят по месту, где была стоянка аула, почитая его местом сбирания духов, боясь аруахов, и вообще болезни ревматизма, которые приписывают неосторожному похождению. Только рвут первую траву.
Звезды почитают душами людей, если видят падение звезд, то говорят: «моя звездочка стоит еще!» и делают два раза воздушное (движение), думая, что одна душа, следовательно, индивидуум должен умереть.
Часто приходится слышать (от) отца при входе его вечером в юрту:
- «Сегодня двое должны умереть».
- «Как?
- Две звезды пали».
Все необыкновенные явления природы считают за места священные, освященные пребыванием аулии (Мухаммеданского (святого); все курганы называются оба, что значит куча. Дерево, одиноко растущее в степи, или уродливое растение с необыкновенно кривыми ветвями служат предметом поклонения и ночевок.
Каждый, проезжая, навязывает на это дерево куски от платья, тряпки, бросает чашки, проносит (в) жертву животных или же навязывает гриву лошадей. Соленое озеро тоже называется кен, место, куда брошен взгляд аруахов или аулие.
Вообще скот, как единственное средство народа, ведет к разным поклонениям к нему: не наступают на кости животных; если прольется молоко, киргиз все (очищает), чтобы не оставить их (в осквернении) и чтобы умилостивить..., делая крест и поклон..., (поднося) правую руку к лбу, подбородку, правому плечу, потом левому.
То же делают, когда переходят через конские джели, говоря, что джели имеют кие и делают таут (от казахского: тау ету - народный обряд посвящения кян предназначении (жеребенка, коня и т. п.). Если увидят кузнечную наковальню, то тотчас подходят и делают крест.
Не переходят через укрюк, топор и бакан (бахав подпирает чавгарах - круглый свод (юрты). (Примечание Валиханова), говоря: переступивший через бакан не разбогатеет (по-казахски: Бакан аттаган байымайды), переступивший через топор никогда не будет довольствоваться (балта баскан жарымайды), лошади (на полях карандашная пометка: джилки аулие (лошади святые), верблюды, бараны, коровы.
Последнее животное, если попадается ночью, то киргиз должен ударить плетью, ибо это есть седалище злых духов. Козы также не уважаются. Если животное имеет какую-нибудь особенность, то его называют аулне (кут – счастье) и почитают выражениями счастья; лошади с гнездами на гривах и хвостах, которые делают, по понятиям киргиз, злые духи-шайтаны, почитаются также за предмет счастья, таких животных никому не отдают: «счастье уйдет» (кут кетеди), если отдают - только берут так называемый слекей - слюну.
Например, у лошадей вырывают клочок гривы, ослюнивают в слюне животного и кладут в калту (то есть в карман). Не стреляют лебедей, боясь кие, и называют его (то есть лебедя) царем птиц. Не бьют сову, филина, дятла, коккарга (синяя ворона) и кукушку.
Последнее был человек. Приехал жених, у него потерялась лошадь, сестра невесты отправилась в поиски и второпях надела один сапог жениха, другой свой; это было весной, вот отчего у кукушки одна нога красная, другая синяя и вот почему кричат аты жок кокек (удод, буквально: безымянная кукушка) (нет лошади, ку-ку).
Кукушка имеет хасиет (священное). Берут ветку, на которой сидела кукушка,и бросают в сабу с молоком (предназначенное для масла в сырников. Это молоко называется эркыт (иркит). (примечание Валиханова), говорят, что даст обильное масло.
Мухаммеданская вера..., (соединяя с) единобожием веру в танкриев и допуская существования бесплотных душ, джин, периев и шайтанов, не могла уничтожить злых духов шаманских. Пери бывают мусульмане и кафиры; неверные пери всегда делают зло и бывают в образе коршунов, орлов; вторые делают зло тогда, когда человек сам (провинится), они кочуют, как киргизы, делают так и... бывших в их аулах.
Джин - это дух, к которому обращаются баксы, это бес, который имеет свои имена; они бывают мужчины и женщины, молодые и старые, и, по уверению баксов и народа, они имеют образ человеческий, об них скажем в статье о баксах.
Албасты - дух, вредящий при родах. Их называют также джезтырпак - с медными когтями. Их глава – сорель (мифическое существо, обитающее на высоких деревьях) вышины 3 сажени, небольшая грудь, а остальное все ноги, копыта очень тонкие.
Болезни у мусульман называются джин. Он имеет вид рослой девки, с распущенными волосами, с грудями такой величины, что всегда бросает на плечи. Сорель - это леший, по некоторым сказкам муж албасты; по некоторым сказкам он принимает всевозможные формы; говорят, что он живет в дремучих лесах, имеет вид человека; обыкновенное человеческое туловище его так длинно, что он бывает равен с лесом. Убивает человека, измучив еще щекотанием, это - русский леший.
Кон-аяк - это человек, вместо ног имеет ремни, живет в лесах и (на) островах. Призвав неосторожного путешественника, садится на него, обвязывает его ремнями и ездит на нем до тех пор, пока (тот), выбившись из сил, не падет.
Джезтырнак - модные когти. Это дух в образе женщины, живет также в лесах. Предание о джезтырнаках. В сказках существуют людоеды: предание о Батыр-хане. При рождении дитяти бросают жертву в огонь, бросают сало, говоря: «у белого верблюда брюхо распоролось» (по-казахски: «ад туйенин карны жарылды).
Если человек умрет в походе, то весь отряд, подъезжая к аулу с криком ой баурум (о, мой родственник, баурум (моя) печень), устремляется на юрту и начинает стрелять, колоть копьями и рубить дерево юрты (босаги-косяки).
Есть жертва круговая - айналмак, жертва три раза обходит существо (в частности тяжелобольного), для которого люди (это) делают. Так, схватывают птицу, окружают три раза вокруг головы и отпускают.
Она берет все мое несчастье и болезни на себя. Человек, делая то же, принимает и предлагает себя духам. Для выражения любви они говорят айналаин - обойду вокруг. Нежная мать говорит любимому сыну: айпалаин карагым (зрачок), шырагым (светильник), т. е. обойду вокруг зрачок, светильник (мой).
Все предсказатели у киргиз называются баксы, и все предсказания свои они говорят от лица своих духов, которых они применяясь к настоящему мусульманству, называют персте (перште) - ангелами, а народ, как правоверные, хотя и не верует в священность их... и хотя называет их джинами, но верует в их могущество, в могущество творить зло, - следовательно, все болезни и напасти суть влияние и порча духов; а баксы, их любимцы, могут упросить своих патронов оставить особу, которую он берет под свое покровительство.
Впрочем, много еще таких, которые безусловно верят в сверхъестественность и божественность баксыев. Духи эти бывают... великие, средние и мелкие, отчего баксы... и их силы бывают разные. Великие лечат всех больных..., режут животы, помогают при родах, заставляя своего духа угнать албасты, гадают, призывая духа своего игрою.
Признаки большого баксы суть следующие: во время игры кладет саблю в живот, впускает до эфеса в горло, лижет раскаленное железо, бьет из всей силы себя в грудь топором, и все это сопровождается игрою на кобызе, инструменте, принадлежавшем аулие Коркоту, и пением, которое называется сарн.
Игра - это призывание духов, кличка (то есть выкликание) их; во время игры (баксы) все более и более дуреет, делается неистовее и падает. Через несколько времени он встает и говорит то, что сказал ему во время этого обморока его дух...
Это - пророчество. У некоторых (баксы) еще во время игры появляются на лбу, на щеках железные иглы и на руках вместо ногтей - ножи. Духи эти имеют имена, как отдельные индивидуумы повсюду и представляются своим баксыям в виде бабы, стариков, ходжей и девок - сары кыз - желтая девка.
Гадатели. Все баксы суть гадатели на собственном их способе гадания - игрой с плетью, держа ее между двух пальцев... равновесия. Женщины, имеющие духов, называются ильты (Ильты - состояние полного опьянения или экстаза.
Происходит от казахского слова елту - опьянеть (от курения гашиша или опиума). Это тоже баксы. Гадатели: джаурунчи - по бараньей лопатке, кумалакчи - раскладывают известным образом круглые шарики.
Число шариков - сорок один. Эти два рода обще употребительные. Шарики, говорят, употреблял пророк Даниил (Даниер). Первое основывается на наблюдениях линий, которые образуются от линий при ее обжигании.
Баксы говорят, что лопатка всегда показывает полную судьбу семи народов: смерть царей этих народов, смерть людей... и судьбы путешественников. Сильные те, которые гадают по необожженном лопатке.
Для гадания употребляется лопатка; выварив, мясо съедают, но до кости недолжно касаться зубами; когда бросают о огонь, то около не должно быть железа. Анекдот о предсказании одного кумалакчи и об объяснении джаурунчи.
Ильты гадают обыкновенно по цвету пламени, бросая в огонь жир: если горит светло - значит предзнаменование хорошее. И темно и красно - нехорошо. При этом джин требует какой-нибудь эксцентричности от бакши. Она все время пьет воду ведро или (употребляет) целый рот табаку.
Предсказателя метеорологии называются исебчи - числитель. По их мнению, и погода имеет известный оборот, смотря по созвездию: так, берут всегда за альфу саратан, апрель, и созвездие джауза (рак), его первое число соответствует первому числу месяца карача (октябрь) и созвездию каус (август).
Из баксыев прославились баганалинец Койлубай, это патрон всех баксы. Еще Балакай, баганалинец, и в настоящее время в Кокчетавском округе баксы Чумен. Кокаман и Ир-Чойлан - это его духи. Ир-Чойлан, главный Надыр-Чулак.
Рассказывают, что он (Койлубай) на одну байгу поставил свой кобыз, предварительно с места приказал его привязать. Когда показалась далекая пыль байги, Койлубай с саблею в руках начал свою игру и пение сари, вдруг со стороны байги показался страшный ураган и подул порывистый красный ветер, наконец, в хаосе пыли и тьмы показались первые лошади и впереди саксауловое дерево с огромным корнем, задевая то одним концом, то другим землю и волоча за собой длинный аркан.
Это был кобыз Койлубая. Ветер и ураган это были силы его духа Кокамана. Приз был получен. Ни один дух баксы из албасты, давителя при родах, не имел власти (при присутствии) Койлубая: для албасты следовало Койлубаю послать только плеть или шапку, тотчас (албасты) оставлял.
В народе до сих пор есть сказание об одном случае, когда на лбу (Койлубая) появились морщины... (в рукописи оставлено место, очевидно, для казахских слов мандайды тыжырылып). Глава духов из его периев был Надыр-Чулак, из джинов - Кокамани из шайтанов - храбрый Чойлан.
Духов своих он держал в строгом порядке: они составляли три куряна (собственно, курен - войско, дружина) и по его требованию обязан были выставить хорошо вооруженный отряд.
Все это сказание из уст народа.
Однажды во сне по обыкновению с докладом будущего явился Надыр-Чулак, глава перлов, и объявил ему, что через несколько дней при родах одной женщины будет сам царь албастыев и советовал ему туда не ездить, говоря, что уже довольно мы восстановили на себя собрание духов ради прихотей человека.
Вставший наутро Койлубай, при разговоре сообщил поверхностное замечание, что на днях будут страшные роды. Действительно, через два дня явился гонец от такого-то бия, прося помощи Койлубая.
Все киргизы были уверены, что пока есть Койлубай они защищены от всех напастей, кроме смерти, тагдыра (судьбы) и гонец явился очень веселый, в полной надежде на могущество Койлубая. Не ехать - значит потерять авторитет и показать свое бессилие против таких ничтожных чертей, каковы албасты, ехать - значит не уважать просьбы и советов Надыра и рисковать собой. Но честолюбие, великий двигатель народа киргизского, взяло верх.
Койлубай отправился в путь, отпустил гонца вперед и приказал ему собрать двести человек около юрты больной, отворить в юрте двери и тюндук (верх юрты). Два вторых куряна в полном вооружении под начальством Кокамана и Чойлана, при нем Надыра не было: он был оскорблен и не поехал.
Подъезжая к юрте, поднял гвалт и, размахивая саблей, въехал в юрту, и устремил глаза, полные гнева и бесстрашия, на чанарак юрты, размахнул саблей, сабля ударилась обо что-то, звон был металлический...
Койлубай крикнул и упал бездыханный с лошади, терзаемый ужасными конвульсиями. Изо рта и ушей струилась черная запекшаяся кровь. Вольная, лежавшая прежде в самоунынии, упала в обморок.
Когда Койлубай увидел на чанараке царя албастыев, на черной, как черный бархат, закованного с головы до ног в синее железо, (с) одним глазом, огромным, как чашка для кумысу, торчавшим на средине широкого лба, - он злобно улыбался на Койлубая и говорит:
- «Тебя мы уважали и дали много, но дай же хоть раз нам» - и в руках держал огромное красное знамя - атрибут своей победы.
Металлический звон был звоном его панциря, он победил Койлубая. Народ был в ужасе: Койлубай лежал, как издохшая лошадь среди степи, в юрте; какой-то туман покрывал юрты, и страшный сверхъестественный шум и гул смущали души людей.
Это была ужасная битва между курянами духов койлубаевских и одноглазым царем албастыев. Черный скакун игриво вертелся под духом, и он твердо стоял на своем месте. Вдруг вдали подул страшный ветер, огромная черная туча с страшным громом, с ужасной быстротой неслась по воздуху и над юртой вдруг спустилась: мрак покрыл воздух, шум усилился, раздался треск, туча быстро направилась на запад.
Это был Надыр-Чулак, он не мог перенести беду своего любимца, с отборной дружиной, с коротким сосновым копьем, грудоломом явился и вонзил копье в самую грудь одноглазого шайтана. Албасты бежали. Лишь только прояснилась туча, Койлубай вскочил с места, крича:
- «Айналаин (буду кружиться) Надыр-Чулак, я твоя жертва!» - Схватил кобыз, начал играть, крича во все горло:
- «Схвати его живого и приведи его ко мне». Больная тоже вошла в себя: «Иншаллах, тауба» (слава богу, прости, боже!).
Албасты были разбиты наголову, царь их полонен и связанный представлен к Койлубаю: его приняли в службу, назначив начальником албасты.
Источник:
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 208 - 215.
Комментарии к "Тенкри (бог)".
Черновые наброски, написанные Валихановым в начальный период его деятельности, вероятно, в 1854 - 1855 г.г. после путешествия по Центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю. В связи с проектом Гасфорта «О введении переходной религии» для казахов в 1854 - 1855 г.г. Валиханов усиленно изучил древние верования казахов и записывал все обряды и легенды, связанные с ними. Печатается по тексту ССВ, т. I, с. 188 - 195, основанием для которого был черновой автограф - ЦГАЛИ, ф. 159, оп, 1, Л 179, лл. 199 - 204, имеется позднейшая копия, отредактированная проф. Н. И. Веселовским (ЦГАЛИ, ф. 118, оп. 1, М 491, лл. 1 - 7). Теест чернового автографа сложный, испещрен многочисленными пометками автора. Впервые наброски опубликованы в Сочинениях Ч. Ч. Валиханов (ЗРГО, ОЭ, т. XXIX, СПб., 1904 г., с. 274 - 282).
1 Для того, чтобы дать джан (присягу), разводят в двух местам огонь, проводят между этих двух огней и заставляют целовать дуло ружья, из которого убит человек. - Форма клятвы, сохранившаяся с доисламских времен. Освящение огнем описывается у Менандра при посещении византийским послом Земархом ставки тюркского кагана Дизабула (VI в.). В древности, разумеется, клятва произносилась не на ружье, а на сабле, мече - обычай, сохранившийся до наших дней у многих народов. Особое значение, которое придавалось предметам, связанным с убийством врага, засвидетельствовано также с глубокой древности в сакской кочевой среде. Данью исламу, который существовал у казахов только в компромиссе с языческими верованиями, была клятва на Коране, который в этом случае воспринимался как «священный предмет» наряду с предметами доисламского культа.
2 При «выносе покойника... обводят около него домашнюю утварь... - До принятия ислама казахи погребали вместе с покойником некоторые предметы домашней утвари и пищу. Обычай сохранился с доисламского времени до конца XIX века
3...колоть копьями и рубить дерево юрты... - Юрта без хозяина считалось символом несчастья. В древнее время ее предавали огню.
4 Джаурунчи - гадатели на овечьей лопатке, прокаленной на огне. Гадатель предсказывает будущее по форме трещин, которые образуются на лопатке в процессе ее сожжения. Гаданье по бараньим лопаткам широко распространено среди монгольских и тюркских народностей Центральной Азии и Сибири.
5 Кумалакчи - гадатели на кумалаках (шариках). Это был наиболее распространенный способ гадания у казахов. Он заключался в следующем: кумалаки, или круглые камешки, последовательно раскладывались определенным образом в три параллельные линии. Кумалакчи говорит о результатах гадания, основываясь на сочетании шариков в этих трех линиях. Общее количество шариков - обычно 41 (число, ставшее традиционным).
6 Даниил - один на четырех библейских пророков. Согласно библейской легенде, был уведен вавилонянами в плен, где прославился верностью своему народу и приобрел репутацию прорицателя.
7 ...или (употребляет) целый рот табаку. - Имеется в виду распространенный у казахов и других тюркских народов способ употребления особо изготовляемого табака (насыбай), который закладывается за губу или под язык.
8...одноглазым царем албастыев. - Казахские легенды об одноглазом великане (циклопе) представляют собой особый вариант мирового сюжета о Полифеме, происхождение которого относится к глубокой древности. Н. Остроумов приводит о циклопах два рассказа, которые будучи оригинальными произведениями устного творчества казахов, вместе с тем своими подробностями напоминают повествование Гомера о встрече Одиссея с циклопом Полифемом. (См.: П. Остроумов. Новые варианты сюжета о Полифеме (Одноглазо). Киргизское рассказы. ЭО, 1891 г., № 9, с. 202 - 207; его же: Одиссеев Полифем в киргизских сказках. СА. 1910 г., III, с. 61 - 64; Л. С. Вере. Киргизское сказание о циклопе. ЭО, 1915 г., № 3 - 4, с. 02 - 67).
Исторические предания о батырах XVIII век.
«Мысль о собирании казахских исторических преданий зародилась у Уалиханова еще в 1852 г. во время учебы в Сибирском кадетском корпусе. По словам Г. Н. Потанина, над этим вопросом Уалиханов не раз размышлял. «Он мечтал сделать открытия в древней истории Востока посредством данных, которые представляют народные предания и остатки киргизской старины». Вероятно, работа написана в 1855-1856 гг. С некоторыми искажениями она впервые была опубликована в «Сочинениях Ч. Ч. Валиханова» (ЗРГО ОЭ, т. XXIX, СПб., 1904 г., изд. под ред. Н. И. Веселовского).
Сама рукопись Уалиханова до наших дней не сохранилась.»
1. Аблай-хан (в смысле старейшего в народе) в одном набеге на джунгаров (задевать небо - «тубеси-кокке жетер» - выражение, означающее верх радости, чести и славы. Примечание Валиханова) отправил вперед для разведывания 1000 человек, разделив на два отряда под начальством двух храбрых батыров: карабужур канджигалинца Джапатая (ободрения) и из того же рода Богенбая – старшего (это любимец Аблая и первый храбрец того времени.
Родом был из рода уак-кирей и был убит в одном из набегов на калмыков с братом своим батыром Сары: отчего часто называют их вместе Сары-Баян. Примечание Валиханова). Батыры долго не возвращались; Аблай начал беспокоиться не на шутку; о судьбе этих батыров спросил у барда (певца) своего Бухар- джирау:
- «Что сделалось с моими молодцами и отчего они так долго не возвращаются?».
Бухар отвечал:
- «Джанатай пройдет через Талкын, Богенбай пройдет Кульджаном. А Хан-Баба назад прибежит. У Джанатаева Талкына проходы тесны и опасны».
Джанатай мой в беду попался, думает Аблай. «Джанатай пойдет, пройдет в улусы и возьмет, от края оторвет. Джанатаем взятую белолицую девицу хан Аблай-султан да возьмет». Сам Аблай говорит, что только однажды, именно тогда, когда сбылось это предсказание, ему казалось, что от радости макушка его задевает небо.
2. Однажды Аблай должен был ретироваться от отряда китайцев и был ужасно печален и сердит, зная, какое может иметь влияние на легкомысленных киргиз эта маленькая неудача. Тогда один из бардов его Татикара-джирау, для одобрения бегущих кайсаков и для самого Аблая пел так:
- «Бежавшие китайцы снова начали движение, натянулась тетива из куланьева хребта. Крепкореберный и широко-желудочный Аблай, перенеси это одно дельце. У врага-китайца клячи как копчик изловчились, нет - хан Аблай не бежал, нехорошее слово «бежал», - он двигался только косо.
Басентипец Серымбет, стрелы бросая, бился. Не ищи ума при бегстве! Нет хладнокровия при торопливости! Баян уаковцев, да мы и это видели! Когда он, поворачиваясь назад, копьем работал».
3. Аблай собирал парод, чтобы предать на разграбление (чапу) (собственно: шабу - нападение, атака) аул одного уйсунского бия Эрденэ-батырз за какой-то относительно его проступок. Хан был на этот раз (так) недоступен, что никто не решался вымолвить словечко в пользу виновного, тогда по просьбе народа Бухар-певец решился и затрубил так:
- «О Аблай! Аблай! Подобно ари и гури (ари и гури - сфера абсолютного пространства, что за 7-м небом, примечание Валиханова) возносится и соперничает с горами твоя слава; не помещаются в пяти воротах отпущенники-рабы твои (отпущение рабов есть на востоке одна на первых добродетелен и есть первый признак великодушия, примечание Валиханова).
Перейдите за Алатау, потушите гнев, если потушите, то не придет ли с 80 вьюками вещей (штрафу (аиб), примечание Валиханова) Эрденэ называемый, твой пестрохалаточный раб.
4. По преданию, Аблай, выехавший из Туркестана в степь к Абулмамет-хану, как к самому близкому родственнику, приехал с дядькой своим Уразом на одной лошади и обстоятельства заставили его жить несколько времени инкогнито у одного богатого киргиза караульского рода, отделения якшилык Даулетбая, где он, как говорят некоторые, был при табуне лошадей.
Жена Даулетбая не без удивления заметила, что молодой иностранец никогда не просит пищи, пока не дадут, и что тогда берет очень неохотно; а из нечистых чашек совершенно не пьет. Это совершенно не киргизское поведение: эксцентричность обратила внимание хозяина, который тогда через расспросы у Ураза узнал о его происхождении, тотчас увез его к хану Абулмаммету, одарив его лучшею лошадью из табуна.
Этот-то выбранный конь был тот знаменитый Чалкуйрук (пламя-хвост), первый сподвижник похода молодого султана, Чалкуйрук, на котором Аблай составил себе имя батыра и уважение киргиз.
5. Плен Аблая у Галдан-Черена. В одном из нашествий джунгаров на киргиз Аблай убил па единоборстве сына Галданова Чарча. Галдан, узнав о смерти любимого сына своего, приказал виновника его, кто бы он ни был, где бы он ни находился схватить.
Калмыки, посланные для сего, настигли его врасплох на охоте, схватили с несколькими биями, с знаменитым батыром Худайберды атыгаевского рода Джапеком (Джапык) и привели к Галдану. На вопрос, где ты убил моего сына, Аблай отвечал: обвинение пало на меня, а был убит народом, через меня исполнилась воля народа над сыном твоим Чарчем.
Галдан был так доволен этим ответом, что несколько раз повторил: мон, мон остановил палачей и велел запереть в юрту и иметь строгий надзор. Тогда-то начались мучения Аблая: мать Чарча каждый день ходила смотреть на убийцу сына казаков (киргизов), каждый день исправно мучила их угрозами и проклятиями, отпускала изрядную порцию энергического проклятия, сопровождала их не менее энергическими жестами и приговаривала:
- «Как ты мог убить его? Разве можно было убить его?»
Аблай не вытерпел и однажды, когда по обыкновению после предварительных сентенций, (она), скрежеща зубами, поднесла кулак свой к его лицу, сделала обычный свой вопрос, он отвечал:
- «Где не умирал такой блудный раб, как твой сын, старая калмычка!».
Она бросилась к мужу, требуя смерти дерзкого казака, и Галдан, боясь чтобы она в самом деле не убила бы Аблая, отпустил его и Джапака-батыра, взяв в аманаты (заложник) сына последнего, который по ловкости своей на охоте и храбрости прослыл под именем Рыжего киргиза (Сары-казака).
6. Когда спросили у Аблая, кого он из батыров более уважает из всех 3 орд, он отвечал:
- «Из предшествовавших мне мужей двое заслуживают удивления: Казыбек каракесековец, который возвратил от Галдана 90 своих пленных, и Дерпсалы уаковец, также возвративший своих пленных.
Первый взял просьбой и был сам у Галдана, а последний устрашил врага, сидя в своем ауле. Из моих батыров басентинец Малайсары по богатству, храбрости и по характеру уаковец Баян по уму и храбрости стоят выше всех».
7. Байгозы батыр тарактинец. Во время преследования торгоутов, бежавших из России, киргизы расположились на бивак, варили в своих походных котлах сушеное конское мясо, разводили в турсуках курт с водой; словом завтракали и подкреплялись на целый день.
В палатке сидел Аблай и в другой Джаныбек батыр чакчаковец - аргын, известный по своей чрезвычайной гордости. Батыр сидел молча и курил табак, тогда молодой киргиз дерзко подъехал к его палатке и, с лошади протягивая руку, сказал:
- «Джаныбек-батыр, дай-ка трубку!» Джаныбек не обратил на него внимания и, чтобы показать совершенное презрение, с достоинством выколотил трубку о каблуки своих красных сапогов, бережно и медленно положил в свою калту (карман).
Скоро хан снялся с поля, и каждый род сгруппировался под своим значком, выехали вперед батыры в кольчугах, в шлемах с перьями, с луками и стрелами, подошли к хану и образовали тоже кружок.
Так вели совет: решено сделать нападение на неприятеля, хотя и в превосходном числе. Для расследования решено было послать караул, вызывали охотников, первый вышел тот молодой человек, который просил трубку у Джаныбека.
На вопрос Джаныбека-батыра у посланных после возвращения их с разъезда, тот же молодой киргиз отвечал:
- «Не много н не мало».
Бой начался, калмыков было 10 тысяч; киргизы потерпело ужасный урон, наконец не выдержали и бросились бежать. Впереди всех один высокий калмык на черной, как ночь, лошади с знаменем в руке вбивался в ряды киргиз, сбросил многих с седла.
Джаныбек находился при этой ретираде, кажется, в доброй среде бежавших, но говорил громко:
- «Жаль, что но родилось ни одного киргиза, который мог бы убить этого болвана (правильно: балуан – силач).
Тогда наш знакомец, тот молодой человек, о котором мы уже говорили, выехал вперед, обернулся, натянул стрелу; тетива взвизгнула, калмык закачался на лошади и упал, стрела завязла в щелку (?) и пошла зигзагами.
Молодой батыр был так недоволен, что стрела его пошла не прямо, проговорил:
- «Этот, кажется, был в шкуре самого аллаха».
Смерть знаменосца произвела смятение в рядах неприятеля. Киргизы воспользовались, ударили назад и обратили калмыков в бегство и таким образом вырвали победу из рук неприятеля. Тогда Байгозы (это было имя молодого человека), закурив трубку и подходя к Джаныбаю (то есть к Джаныбеку), сказал:
- «Батыр, вот время, когда можно курить».
Так начал свое батырство Байгозы тарактинец, и с этого времени все узнали его имя.
8. Балталинец Уразумбет-батыр славился удивительно» ловкостью и быстротою действия. Баенбал-батыр (Баянбай) (бага) налинец рассказывал, что ему однажды случилось быть вместе с Уразумбетом: ночью поехали они на аул калмыков из 8 юрт; они решились напасть - сказано и сделано; пока он, Баянбай, успел перебить калмыков в двух юртах, как явился Уразумбет- батыр, объявил, что он доканал всех. Он получил двойную добычу.
9. В одной из пещер в степи засели калмыки. У входа сидел один стрелок с знаменитым тогда корама (Корун (Корум) - имя меткого стрелка и легендарного изобретателя дальнобойного фитильного ружья) черным ружьем (калмык из него стрелял сайг через Иртыш); после смерти нескольких смельчаков, никто из батыров не смел идти.
Вдруг выезжает на буланой лошадке сыргелинец Ильчибек-батыр и отправляется на калмыка мелкой рысцой. Все ожидают с трепетом, что он сейчас падет. Ильчибек, доехав таким образом до вольно близко, вдруг устремился, калмык приложил фитиль - осечка и не успел приложить еще раз, как был изрублен батыром.
Когда его спрашивали о причине того, что он ехал все рысью, он отвечал: «Калмык хотел моей лошади и дожидался, чтобы я подъехал ближе, я же рассчитывал, что пока я буду ехать, на фитиле образуется большой нагар и после даст осечку». У киргиз вошло в пословицу - фитиль с нагаром курунова черного ружья.
10. Валихан в молодости был известен за большого чудака и «тентека» (озорник). Он был причиной одной войны с калмыками, которые покорились Аблаю и прошли в степь, чтобы остаться при нем.
Поспорив с молодым нойоном за девушку, Вали пнул его и изломал тяжелыми каблуками тогдашних античных сапогов ребра бедного калмыка.
11. Между башкирцами известен во время Аблая Исет- батыр; рассказывают, будто он имел однажды встречу с Аблаем, схватил его под мышку и понес с такою же легкостью, как бы свою шапку.
12. Киргизы Средней орды сделали набег на дикокаменных киргиз, «киргизы» были предуведомлены и были готовы для встречи известных гостей. Кайсаки бежали. Неприятель преследовал их до реки Или.
Казаки переправились вброд. Киргиз Темирджан-батыр, увлекшись, зашел с малым числом удальцов, преследовал их на киргизский берег за Или. Тогда канджигалинец Томача-батыр, видя, что манап увлекся слишком далеко и не имел товарищей, повернул назад и воткнул копье под самую грудинку лошади с такой силой, что благородное животное разом село на задние ноги.
Манап быстро соскочил с лошади и бросился на сергелинца Джаулубай-батыра; канджигалинец Исет-батыр, увидев опасность товарища, дал удар копьём - манап повалился на землю. Томача-батыр, оп был низкого росту, но с великой душой, он сел на него и распорол живот - это был сокол, затравивший лебедя. Белое обнаженное тело батыра осталось в поле, белея подобно белому сазану (белый жир).
(Манапами называются родоначальники дикокаменных киргиз). Темирджан был красив в полном смысле: бел и дороден. Киргизы увидели смерть любимого манапа, начали преследовать с ожесточением.
Сергелинц Джаулубай был взят в плен, сошел с лошади, чтобы стрелять, затем (были) взяты киргизы Усен-батыр и Алтай, Байгозы-батыр. Байгозы-батыр был выбран по жребию, как жертва за смерть манапа.
Его спросили, кто убил батыра? Он отвечал твердо: я не хочу быть доказчиком ни на кого. Его посадили, обратив лицом к востоку, отмерили 40 шагов, и бурут с длинным ружьем сел напротив и начал медленно наводить оружие.
Сам Байгузы рассказывал после, что решительно ничего не думал н не боялся:
- «Завязав крепко на голове (то есть обвязав крепко голову), я сидел, ожидая выстрела, но не замечая того, когда брат покойника пришел ко мне н сказал: «Брат мой был шаит, я не хочу крови, ты, казак, свободен».
- «Я не мог подняться, кровь в жилах совершенно остановилась, и пот градом лил с лица». Он был выменен на одного из братьев Темирджана, бывшего в плену у Аблая, и Джаулубай вышел с обещанием доставить выкуп.
За него жизнью поручился товарищ по плену киргиз Усен. Он пас баранов и через несколько месяцев при благоприятном случае бежал.
Вот плач сестры по Темирджану.
«В табуне сивая лошадь, у которой, если поворочу, будет болеть шея. Подобный ханскому сыну братец, если не потяну, будет болеть у него сердце; братец - что же я сделаю? Боже, как бояк (краска) в бокше (сума), как саяк в табуне, как манат (китайская материя).
Подобного ханскому сыпу, брата не помяну - будет болеть сердце, ох, братец, что я сделаю, боже!»
13. Последнее преследование бежавших торгоутов в преданиях народа известно под именем «тыльного похода». В этом походе народу было более сан (без счета), хан стоял на сборном месте, не двигаясь; он дожидался храброго батыра Баяна, несмотря на ропот других батыров.
Наконец явился с 540 человеками и он предстал перед ханом: «Куда, что прикажешь, я исполню». Хан обратился к народу и сказал: «Вот зачем я так долго ждал Баяна». В это-то время кандагалинец Джаяатай-батыр, державший передовой караул с отрядом в 500 человек в расстоянии суточной езды, был убит калмыками.
Это случилось так: брат Джанатая Уйсунбай, делая разъезды, взял у калмыков 3 верблюдов; когда по возвращении у него брат же его Аркандар-батыр попросил должную саугу (добычу), Усунбай-батыр отвечал: «У калмыков верблюдов много, есть у тебя руки - можешь сам взять: болезни у тебя нет».
Аркандар, глубоко оскорбленный этими грубыми словами, чтобы в свою очередь доказать брату свое удальство, с 7 товарищами, с знаменитым Конайем, сыном Куян-Кузды (заячьи глаза), напали на стадо калмык, взяли 9 верблюдов.
Аркандар отправил добычу с 7 товарищами вперед, сам отстал, чтобы остановить или заманить в противную сторону направляющуюся погоню. Сначала товарищи видели как Аркандар искусно умел заманить их в противную сторону, потом видели, как будто батыр окружен.
Взошедши на гору, увидели, наконец. Показалось - со всех сторон идут. Туй! Аркандар убит. Когда узнал Джанатай о смерти любимого своего брата, сделал проклятие и поклялся против убийц:
- «Или умру, или напьюсь вашей кровью!»
Велел подать лошадей, с 500 человек отряда ворвался в ставку калмыков, их было 10 тысяч, и утонул в битве - битва была страшная, киргизы шли на смерть. Уйсунбай с распоротым животом, держа внутренности в полах своего халата, дрался и спрашивал:
- «А что, Джанатай-батыр, с распоротым животом можно ли жить?» Все пали, остался Джанатай и 8 человек и сын его Токыш. Джанатай слез с лошади, подал ее сыну, говоря:
- «Отправляйся домой, пробейся, ибо не будет человека, который при случае мог бы за меня отомстить», - и пал.
Когда Аблай узнал о смерти Джанатая, плакал неутешно, говоря:
- «Не дававший себя точить, черный булат мой!»
Все войско (ходом чабдул) (говорят также: шабуыл - атака, нападение, налет) быстро устремилось на Или и до прихода калмык окружили все броды. Калмыки остановились, послали семь человек послов, во главе которых высокий черный калмык в огромной, как котел, лисьей шапке, сошед с лошади за несколько сажен, подошел к хану и приветствовал:
- «Алла джар (Бог помощник)! Уса и Серен-хан послали меня: калмыки и казаки были братья, будем же и теперь ими, примите белые юрты - дань и будем мирны!»
- «Пошел!» - сказал хан, собрал батыров и начал совещание, выразив свое мнение:
- «Белые юрты надо взять, обнадежить и потом уже разграбить».
Баян отвечал:
- «Нет! Не берите белых юрт, не старайтесь обманывать: Уса и Серен обманули верхний и нижний Китай, обманут и тебя».
Хан два раза повторял свое, он два раза отвечал свое. Хан остался на своем. Калмыки стали в расстоянии коча (точнее: коша, от слова кеш - кочевка, кочевой караван; кош жер - расстояние в один привал) баранов (переход 8 и 9 верст).
Два дня ждали, нет калмыков, нет белых юрт, после (?) узнали, что прошло два дня, как они снялись и ушли. Баян взялся преследовать с 1000 человек, догнал в то время, когда они вошли в Китай, и не успел захватить только 40 саженями; на возвратном (пути) от воды, испорченной трупами калмыков, они заболели болезнью кара тышкак (черные испражнения) и погибли и погиб знаменитый Баян.
14. Галдан спрашивал у Аблая, когда тот был у него в плену:
- «Какие государи выше других?»
- «Кондакер (под этим названием раньше у казахов была известны сельджуки, а в более позднее время Крымское ханство), русский белый царь, Ижен-хан, Галдан, после я сам» (так называли казахи китайских императоров).
- «Мен, мен!» - говорил Галдан. «Управляешь малым пародом, но достоин большого народа», - сказал Аблай.
Источник:
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 216 - 222.
Комментарии.
Печатается по тексту ССВ, т. I, с. 220 - 227. Автограф не сохранялся. Текст был напечатав по отрывочной рукописной копии - ЦГАЛИ, ф. 118, оп. 1. д. 491, лл. 1 - 32, и опубликованному ранее тексту в ЗРГО (СПб., 1904, т. XXIX). Мысль о собирании казахских исторических преданий зародилась у Валиханова еще в 1852 году во время учебы в Сибирском кадетском корпусе. По словам Г. Н. Потанина, над этим вопросом Валиханов не раз размышлял. «Он мечтал сделать открытия в древней истории Востока посредством данных, которые представляют народные предания и остатки киргизской старины». Вероятно, работа написана в 1855 - 1856 г.г. С некоторыми искажениями она впервые опубликована в Сочинениях Ч. Валиханова (ЗРГО ОЭ, т. XXIX, СПб., 1904, над. под ред. Н. И. Веселовского).
1 Аслай-хан (1711 - 1781 г.г.) - казахский хан Среднего жуза, один из наиболее авторитетных государственных деятелей в Центральной Азии нового времени. В первой половине XVIII в. приобрел большое влияние среди казахов благодаря своим умственным и организаторским способностям, особо проявившимся в борьбе с джунгарами. В 1740 году принял российское подданство. Источники характеризуют Аблая как дальновидного политика, деятельность которого была объектно направлена на создание централизованного и самостоятельного казахского государства. В 1771 году он был избра ханом Среднего жуза и в 1778 году официально утвержден в этом звании Российским правительством (см.: Я. Г. Аполлон. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII - начале XIX в.в., М., 1960 г.; В. Я. Васин. Россия и казахские ханства в XVI - XVIII в.в. Алма-Ата, 1971 г.; В. С. Кузнецов. Цинская империя на рубежах Центральной Азии, вторая половина XVIII - первая половина XIX веков. Новосибирск, 1983 г.).
2 Джунгары (ойраты) - под этим названием были известям западно-монгольские племена; соседние тюркоязычные народы называли их калмыками. В первой половине XVII в. эти племена составили сильный союз - Джунгарское пли Ойратское государство, оттеснившее на второй план восточных монголов. Ойратское государство достигло наивысшего могущества в конце XVII в. и в первой половине XVIII века период правления ханов Батура, Цеван-Рабтана и Галдан-Цэрэна.
3 Джанатай (точнее Жанай) - батыр Среднего жуза, рода канжигалы (XVIII в.). В ряде исторических и поэтических преданий и спевах устного народного творчества казахов фигурирует как герой борьбы с джунгарами. (См.: «Казах эдебиети тарихы», I т., Алматы, 1948 г., 307 - 308 б.).
4 Богенбай батыр Среднего жуза, рода канжигалы (его прозвище Канжигалы карт Богенбай). Один из организаторов и руководителей казахского народного ополчения в борьбе с джунгарами (20 - 30-е годы XVIII века). О нем сложено в устном народном поэтическом творчестве казахов много легенд и преданий. Широко известна историческая поэма «Богенбай», возникшая на основе преданий и исторических спевов о нем. Восхваление подвигов Богенбая, а также других известных героев борьбы с джунгарами - Кабанбая, Казбека, и др. - в исторических преданиях XVIII в. сопровождается большой идеализацией этих образов в соответствии с традициями героического эпоса. В этих идеализированных образах Богенбая, Кабанбая и других батыров, лишенных каких-либо отрицательных черт, которым в той или иной степени обладали их прототипы - реальные исторические личности, отразились чаяния народа, мечтавшего об идеальном герое, защитнике простых людей от чужеземных завоевателей. (См.: С. Аманжолов. Богенбай-батыр. Алматы, 1948 г.).
5 Бухар-джирау (правильнее, жырау) Калкаманов (1693 – 1787 г.г.) - известный казахский певец-импровизатор, автор многих песен дидактического характера, получивших большую известность. Несмотря на классовую ограниченность творчества Бухар-жырау, выражавшего интересы патриархально-феодальной верхушки казахского общества, в его произведениях нашли верное отражение отдельные исторические события того времени. Оп воспевал освободительную борьбу казахского народа против джунгар и народных героев этой борьбы -Богенбая, Кабанбая, Джаныбека и др. Будучи тесно связанным с ханом Аблаем. Бухар-жырау поддерживал и одобрял его политику лавирования между Россией и Китаем. Лишь в конце своей жизни он подошел к пониманию необходимости союза с Россией. В творчестве Бухар-жырау появляются элементы, ставшие потом свойственными казахской письменной литературе. (См.: «История казахской литературы», т. 2. Алма-Ата. 1979 г. с. 33 -51).
6 Талкын (Талкан, Талкы) - военная крепость около Хоргоса, недалеко от Кульджи.
7 Пройги Кульджаном - т. е. вырваться из рук врага, искусно ведя бой, проявляя ловкость и отвагу (от имени древнего богатыря Кульджана, бесстрашного воина и замечательного тактика).
8 Хан-Баба (XVIII в.) - сын знаменитого Барака, соперника хана Абулхаира. В исторических преданиях символизирует тип малодушного и бесславного воина. (См.: А. Я. Левшин. Описание киргиз-казачьих и киргиз-кайсацких орд и степей. т. II, СПб., 1832 г., с. 63)
9 Татикара-джирау (жырау) - крупнейший казахский певец-импровизатор и сказитель первой половины XVIII в. В его песнях и поэмах наряду о сохранении основных традиций устного народного творчества уже появляются моменты, ставшие позже характерными для письменной литературы.
10 Серымбет (Сырымбет) (XVIII в.) - один из знаменитых батыров рода басентиин. отличавшийся в борьбе с джунгарами.
11 Баян (первая половина XVIII в.) - батыр Среднего жуза, рода уак-кирей. герой освободительной борьбы казахов против джунгарских завоевателей. В исторических преданиях XVIII в. и в устном народном творчестве казахов широко известен исторический спев «Баян-Батыр», содержащий описание его героических подвигов и гибели в бою. (См.: «Казах адибиети тарихы», 1 т., 308 - 309 б.).
12 Абулмалет (правильно Абулмамбет) в литературе неточно: Абулмагамет. Абулмахамет и т. д., умер в 1771 г.) - хан Среднего жуза, был провозглашен ханом в 1739 году, после победы над джунгарами.
13 Галдан-Черен (Цэрэн) - джунгарский хунтайджи (1671 - 1745 г.г.). Вел войны с Китаем и казахами. В 1741 - 1742 г.г. явился организатором опустошительных набегов джунгаров на земли казахов Среднего жуза. В результате этих вторжений часть казахских кочевий в Семиречье была временно оккупирована джунгарскими войсками. После смерти Галдан-Цэрэна в Джунгарии усилились центробежные тенденции, начались феодальные междоусобицы. Это способствовало распаду феодального ханства и в 1758 году оно было разгромлено маньчжурскими войсками.
14 Галдан, боясь, чтобы она в самом деле не убила бы Аблая, отпустил его.., - Вопреки народным преданиям, источники убедительно показывают, что Аблай был освобожден из джунгарского плена благодаря настоятельным требованиям российской пограничной администрации, которые были предъявлены джунгарскому нойону Мандже в Семиречье российским послом К. Миллером. (См. ЦГАДА, ф. 248, кп. 28/149, д. 190. казахско-русские отношения в XVI - XVIII в.в. Алма-Ата. 1961 г., с. 258 - 262: II. Гуревич. Международные отношения в Центральной Азии в XVII - первой половине XIX в.в., М., 1979 г.,с. 77).
15 Сары-казак - двусоставной этноним; термин сары часто употребляется в составе этнонима сары-кышпак, сары-аргын, сары-уйгур и др. в географической номенклатуре, а в области космогонии имел значение «западный». (См.: А. И. Кононов. Семантика цветообозначений в тюркских языках. Тюркологический сборник 1975 г.. М. 1978 г.). Вместе с тем известно также употребление слова сары в значении «большой», «широкий», «сильный».
16 Казыбек - известный бий Среднего жуза, один из главных биев казахского ханство первой четверти XVIII в. По народным преданиям, Казыбек - один из авторов «Свода законов Тауке-хана», известного под названием «Жеты жарты» («Семь истин»), фрагменты которого дошли до нас в записях Я. П. Гавердовского, Г. И. Спасского и А. И. Левшина (см.: РОЛОНИ, коллекция 115 № 495; Г. И. Спасский. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды. - Сибирский Вестник. СПб., 1820 г., ч. IX - XI; А.И. Левшин. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей, т. III, с. 169 - 177). Казыбек пользовался большим влиянием среди казахов Среднего жуза. По данным русских источников, Казыбек «почитался в орде за главного судью, с которым советовались даже Абулмамбет-хан и Аблай и без его согласия ничего знатного не предпринимали». В исторических преданиях и народной поэзии Казыбек изображается как организатор общей борьбы против завоевателей-джунгар. Сохранилось много изречений, афоризмов, образцов ораторского искусстаа, авторство которых приписывается Казыбеку. Значительная часть их опубликована в советское время. Краткую характеристику Казыбека, как правителя Среднего жуза при Тауке дает татарский ученый Марджани (у него Козыбек) в своем сочинении на татарском языке «Мустафад ул-ахбар фи ахвал Казан ва Булгар» (Казань, 1885 г., стр. 155). См. также: А. Я. Левшин. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей, т. II, стр. 63; «Казах адбиети тарихыт», I т., б. 271 - 272, 275, 908; К. Байболов. Толибедин тарихы. РОБАН КазССР. № 763. жл. 22 - 26; его же: Есим ханным жыры. РОБАН. КазССР, М 513. л. 398).
17 Малайсары (Малай-Сары) - батыр Среднего жуза, рода басентийн, один из героев освободительной борьбы казахов против джунгарских завоевателей (XVIII в.). Его имя увековечено в географических названиях местностей, в частности, в долине реки Или, недалеко от Алтын-Эмельского хребта, т. е. там, где в XVIII веке происходила историческая битва казахских батыров во главе с Малай-Сары с джунгарами. (См.: «Казак одебиети тарихы», I т., 308 б.).
18 Байгозы (XVIII в.) - батыр Среднего жуза, рода таракты (Акмолинская степь), один из героев борьбы с джунгарами.
19... во время преследования торгоутов... - Имеется в виду переход калмыков из междуречья Яика и Волги в 1771 году через территорию Казахской степи на места их старых родовых кочевий - в район современного Синьцзяна (бывшей территории Джунгарского ханства).
20 Джаныбек - батыр Среднего жуза, рода сары-жетым шакшак сподвижник Аблай-хана; стоял во главе одного из ополченческих отрядов во время борьбы с джунгарами.
В устном народном творчестве казахов Джаныбек выступает также как один из популярных судебных ораторов, отличавшийся большим красноречием, в частности, своими речами на межродовых судебных разбирательствах. (См.: «Казак адебиети тарихы», I т стр. 308 - 309 б.; «Жанибек-батыр», РОБАН КазССР. № 955).
21 Уразумбет (XVIII в.) - известный батыр Среднего жуза, рода баганалы (из улутауских найманов), один на героев борьбы с джунгарами.
22 Корама - легендарное дальнобойное ружье казахского султана Ондана, погибшего во время войны с джунгарами (XV в.). В поэтических преданиях султан назывался «узын окты Ондан» - длиннострелый Опдан.
23 Ильчибек (XVIII в.) - батыр Старшего жуза, рода сыргелы, населявшего долину Чирчика и Келеса; одни из героев борьбы с джунгарскими завоевателями, вторгшимися и Южной Казахстан. (См.: «Казак одебиети тарихы», I т. 308 б.).
24 Нойон (нойон) - монгольский княжеский титул.
(Об управлении казахами Большого жуза).
«Работа в виде служебной записки была написана в 1856 г. от имени генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта, адъютантом у которого был Ш. Уалиханов, после посещения им Семиреченского края. В записке впервые ставится вопрос о необходимости и целесообразности присоединения Южного Казахстана и Кыргызстана к России. Содержание работы свидетельствует о достаточном знании Шоканом Уалихановым географии и истории Казахстана и Центральной Азии, а также территориального расселения казахских родов в середине XIX века. Проводится мысль о разумном управлении казахами Большого (Старшего) жуза, только что присоединенного к Российской империи, с учетом нужд и обычаев местного населения.»
Вокруг нас на окраине Империи народы пробуждаются от сна, и невежественный мрак, в котором они были погружены многие столетия, начинает исчезать (на нолях пометка: Об упрочении влияния в киргизской степи Сибирского ведомства, и в особенности в Семипалатинской, и усилении войск Отдельного сибирского корпуса.
С картой кир. степи Сиб. ведом. Собственно его величества рукою напитано карандашом: «По военной части представить соображения, а все касающееся гражданского управления сообщить на обсуждение Сибир. комитета» 23 окт. 1856 г. Генерал-адъютант Сухозанет).
Внутренние смуты в Китае, расшевелившие умы этого дремавшего доныне колосса, должны по естественному ходу дел разрешиться каким-либо переворотом. С другой же, стороны, в Бухаре в магометанских ханствах Средней Азии уже появились поджигательные фирманы турецкого султана, которые эмир бухарский старается распространять через своих эмиссаров между мусульманами, появилось, как слышно, и английское золото и люди из Стамбула; нет сомнения, что в скором времени на среднеазиатских базарах, на коих поныне еще первенствуют без соперничества русские изделия, появятся английские товары, а вместе с тем и европейское усовершенствованное огнестрельное оружие.
Всё это ведет к необходимости принятия деятельных мер предосторожности. Для лучшей видимости считаем неизлишним сделать краткий обзор положения нашей среднеазиатской границы. С занятием на Сыр-Дарье форта Перовский, а в Заилийском крае укрепления Верного, Россия стала у самых ворот Средней Азии и положила краеугольные камни, или межевые столбы, границы, долженствующей отделить владения империи от ханств, лежащих на юг этих двух пунктов.
Граница эта вообще еще мало известна и до сих пор не определена. Она считается условно по реке Чу, но и это обозначение существует по одним преданиям между русскими, кайсаками и кокандцами.
Сопредельные со среднеазиатскими владениями земли кайсаков Сибирского ведомства занимают ныне всю южную часть Западной Сибири, заключая обширное пространство более 1 000 000 квадратных верст.
Вся эта степь, не имеющая никакой определенной границы на юге, ограждается с сей стороны мало-проходимым, пустынным, бесплодным пространством, называемым Голодною степью, на протяжении от запада к востоку от границы оренбургских кайсаков до озера Балхаша на 700 верст и оттуда далее к востоку еще 600 верст - сим же озером, рекой Или и построенным в Заилийской долине укреплением Верным.
Впереди (южнее) степей Сибирского ведомства расположены Улутауская станица и Актауское укрепление. Одни только верблюжьи караваны в сих пустынных, песчаных и бесплодных местах находят скудный корм и воду в редких, необильных и отстоящих на дальнем друг от друга расстоянии колодцах.
Левый фланг степи, составляющий нынешнюю Семипалатинскую область и опоясанный с юга и востока высоким снеговым хребтом Алатауских гор, обращен фронтом против бывшей Джунгарии и Малой Бухары, завоеванных в прошедшем столетии китайцами в царствование императора Цянь-Луна.
Собственно же южная оконечность сего фланга хотя и обращена и сопредельна с Кокандскими владениями, однако по утверждении России в Илийской долине, на коей занят уже центральный пункт укреплением Верным, (расположенной) в узле главных путей, ведущих в Ташкент, Кульджу и Кашгарию, между судоходной рекой Или и хребтом дикокаменных гор, фланг этот будет иметь положительную опору, особенно если поступят в верноподданство России все племена дикокаменных киргизов, которые, быв поныне угнетаемы кокандцами, конечно, более для себя выгоды (будут иметь) в покровительстве России.
Оградить южную границу особою связною линиею, примкнув ее к Оренбургской Сыр-Дарье, не представляется возможности, ни вдоль по северной окраине Голодной степи, ни ниже по реке Чу, которая на всей нижней половине течения не представляет решительно ни одного пункта, пригодного для постоянного водворения, тем более что поддержание всякого на сей части реки Чу твердого пункта по малопроходимости Голодной Степи, лишенной кормов и топлива и самой воды (кроме по реке Сары-Су), было бы невозможно.
Одна только верхняя часть реки Чу, от самого выхода ее из дикокаменных гор до того места, где более приближается к озеру Балхашу, представляет все условия для оседлости, и (проживание здесь) может быть поддерживаемо подвозами не только с Заилийского укрепления Верного и Копала, но со временем и по озеру Балхашу, расположенному южной своей оконечностью от реки Чу не более (чем на) 100 верст.
От верховьев реки Чу самым лучшим естественным направлением будущей линии могли бы служить вершины гор Кунгей Алатау и северного их отрога, параллельного с рекой Чу до реки Сыр- Дарьи близ города Азрета, пли Туркестана.
Принимая в соображение, что половина дороги от верховья реки Чу к Ташкенту занята кочевьями кайсаков Большой орды родов джалаир и дулатовцев и что кокандцы этих кайсаков удерживают в повиновении только некоторым числом укрепленных пунктов, из коих высылают вооруженные команды для сбора анкета (подати), можно сказать с утвердительностью, что при удалении оттуда кокандцев мы более, чем они, можем надеяться на содействие тех кайсаков, не стесняй их в кочевьях и в образе жизни.
Учреждение в кайсацкой степи Сибирского ведомства правильного управления, которое бы соответствовало пользе, нуждам и кочевым обычаям народонаселения, этих пространных степей составляло всегда предмет особого внимания и заботы нашей верховной власти.
В 1854 году на основании высочайшего указа, данного правительствующему сенату 19 мая того года, кайсацкая степь разделена на две части - из коих в одной, составляющей правый фланг степи и состоящей из 5 внешних округов, оставлено прежнее управление с переименованием ее в Область сибирских киргизов, а из другой, находящейся на левом фланге и состоящей из Кокбектинского и Аягузского округов, лежащего на правом берегу реки Иртыша, Внутреннего округа кайсаков.
Подольского военного округа, городов Семипалатинска и Усть-Каменогорска и Бухтарминского укрепления, образована особая область под наименованием Семипалатинской, на основании высочайше утвержденного о ней положения.
Причины, побудившие разделить кайсацкую степь Сибирского ведомства на две части и образовать из них на левом фланге особое управление, заключались главнейшие в том, во-первых, чтобы разъединить огромную массу кайсаков Сибирского ведомства, рассеяную на необъятном пространстве, и вести каждую из вышеупомянутых двух частей к гражданскому образованию особым путем, соответственно пользам и видам правительства и условиям самой местности, сохраняя на правом фланге преобладающим пастушеский быт кайсаков и усиливая на левом хлебопашество и оседлость, и, во-вторых, чтобы ускорить развитие гражданственности и промышленности левого фланга, весьма важного в политическом, военном и финансовом отношениях.
Восточная часть этого фланга, нынешняя Семипалатинская область, прилегает к китайским пределам, а южная - к Ташкенту и Коканду; такое важное политическое и торговое значение этого края, наделенного всеми дарами природы, требует ближайшего наблюдения и упрочения оседлости.
По высочайшему повелению в 1853 году занята Заилийская долина (на) 400 верст далее от Копала на юг, а в 1854 году приступлено к возведению на оной укрепления Верного и к образованию казачьих поселений, как в Заилийской долине, так и в верховьях реки Лепсы и около Урджара, прилегающих к китайской границе.
Места для этих поселений избраны и отведены, половина переселенцов прибыла в прошедшем 1855 году, а остальные в нынешнем 1856 году. Заилийская долина составляет весьма важный уголок в Алатауском округе.
Плодородная почва земли этой долины, прорезываемой судоходною рекою Или и опоясываемой с юго-восточной стороны хребтом снеговых гор, превосходные растительность и климат ее и изобилие здоровых пресных вод делают ее лучшею страною Западной Сибири.
В отношениях политическом, военном и торговом Заилийский край имеет чрезвычайно важное значение. Находясь в узле трех держав и главных путей, ведущих в Ташкент, Кульджу и Кашгарию, он служит опорою против вторжений со стороны кокандцев и китайцев, занятием его упрочивается порядок и спокойствие в Большой орде, приобретается большое влияние на дела с Кокандом и Ташкентом, обеспечиваются торговые пути в эти места, а сближением с дикокаменными киргизами представляются виды на открытие торгового пути с Кашгариею, Яркентом, Тибетом п прочими местами Средней Азии.
Присоединение Заилийской долины имело уже последствием (то), что один из значительных родов дикокаменных киргизов бугу в 1855 году поступил в русское подданство, и нет сомнения, что вслед за этим и прочие колена дикокаменных киргизов последуют примеру бугу.
Но вместе с тем присоединение обратило на себя внимание соседственных государств: Коканда и Ташкента, особенно после занятия Ак-Мечети. Кокандцы, понимая всю важность значения занятой за рекой Или позиции, приступили со своей стороны к усилению обороны пограничных крепостей Пишпек, Мерке и Аулие-Ата и всемерно силятся подстрекать дикокаменных киргизов и кайсаков Большой орды, находящихся в подданстве России, действовать с ними заодно.
Кайсаки Большой орды состоят ныне в заведовании особого пристава из военных штаб-офицеров, который управляет ими на основании составленной Министерством иностранных дел и высочайше утвержденной 10 января 1848 года инструкции.
Инструкцией этою в случаях только экстренных, не терпящих отлагательства, к предупреждению измены или восстания, к изгнанию насильственного вторжения не подвластных России племен или преследованию шайки барантовщиков, предоставлялось приставу (право) употребления воинских команд, в Семиреченском крае водворенных.
С занятием Заилийской долины и поступлением в подданство России части дикокаменных киргизов значение пристава при кайсаках Большой орды получает большую важность и более шире (становится) круг (его) действий.
Местопребывание его уже перенесено из Копала в укрепление Верное, откуда он в равной мере может иметь ближайшее наблюдение за ордынцами Большой и Дикокаменной орд и за всем происходящим на кокандской границе.
При таких условиях необходимо, кроме одного заведования кайсаками, подчинить приставу непосредственно и все войска, в Илийском крае находящиеся, и главное заведование этим краем, дабы, таким образом, сосредоточив в одних руках военное и гражданское управление, удобнее направлять все действия частных начальников к одной цели - разумно управлять обширным пространством земли (между реками Караталом и Чу), занимаемым кайсаками, племенами Большой орды.
Соединение в руках нынешнего пристава всего управления войсками, краем и живущими в нем племенами (при) даст сему облеченному доверием правительства чиновнику в глазах ордынцев то значение, которое у восточных народов неразрывно с понятием о силе и власти.
Разъединение при таких обстоятельствах в крае властей было бы неудобно и весьма вредно. Достаточно взглянуть на карту и сообразить соотносительное положение сей страны с сопредельными землями и племенами, достаточно удостовериться, что весь край за рекой Чу до самых вершин гор Кунгей Алатау, Боролдайских и Каратауских занимается кочевьями кайсаков, преимущественно дулатовцами и джалаирами, принадлежащими Большой орде и неохотно повинующимися кокандскому правительству, которое построило несколько крепостцев по верхней части реки Чу более для удержания их в повиновении, нежели по видам безопасности против России.
По этим причинам мы полагали бы пристава при кайсаках Большой орды переименовать в правители Илийского края, подчинив ему, как выше сказано, кроме заведования кайсаками, также и войска Илийского края и, главное, заведование этим краем.
Относительно заведования кайсаками правитель Илийского края должен руководствоваться (инструкцией, высочайше утвержденною для пристава Большой орды, состоя, как и поныне, в ведомстве Министерства иностранных дел и генерал-губернатора Западной Сибири, а по заведованию войсками и краем должен быть он снабжен особою инструкцией) от генерал-губернатора Западной Сибири и командира Отдельного сибирского корпуса.
Как с возложением па правителя новых обязанностей и расширением круга его действий занятия его увеличатся, то мы признаем нужным назначить ему собственно по заведованию кайсаками и гражданскими сношениями помощника из гражданских чиновников и постоянного депутата от кайсаков, с тем, чтобы депутат этот был избираем от кайсаков на три года по общему их соглашению.
Подробные по сему предмету предложения сообщены министру иностранных дел 16 сентября сего года.
Источник:
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 223 - 227.
Комментарии.
Печатается по тексту ССВ, т. 4. с. 17 - 22. Рукопись хранится в ЦГВИА (ф. 400. оп. 263/916 - а, д. 8, лл. 1 - 24). На эту тему имеется статья «Положение об управлении Алатавскям округом», опубликованная в газете «Северная почта» (1863 г., М 68).
Работа написана в 1856 году, как официальная записка от имени генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорта, адъютантом у которого был Валиханов после посещения им Семиреченского края. Другой список записки хранится в ЦГА КазССР: в нем имеются вставки, сделанные рукой Гасфорта, по содержанию отличающиеся от мыслей, высказанных Валихановым. В работе впервые ставится вопрос о необходимости и целесообразности присоединения Южного Казахстана и Киргизии к России, эта идея была осуществлена лишь через десять лет (1865 г.). Записка позволяет судить о глубоком знании Ч. Валихановым географии и истории Казахстана и Средней Азии, а также территориального расселения казахских племен в середине XIX в. По свидетельству Г. Н. Потанина, подобных записок было немало составлено Чоканом во время службы его в Западной Сибири. Г. Н. Потанин отмечает, что в архивах Омской канцелярии, вероятно, найдется немало трактатов и записок о казахском хозяйстве или о казахских судебных порядках и т. п. или составленных Чоканом но собранным им лично данным, или написанных под диктовку Мусы. (См.: «Русское богатство», 1896 г., 78). В записке проводится мысль о разумном управлении казахами Большого жуза только что присоединенного к России, управлении на основе демократии с участием представителей казахского парода. Все это рекомендуется делать с учетом нужд и обычаев местного населения; настоятельно говорится о необходимости слияния военной и гражданской власти. С этим Гасфорт связывал поднятие авторитета Алатауского округа, находящегося в пограничной полосе, а Валиханов - ослабление произвола военной власти, подчинение к гражданскому управлению.
1 ...расшевелившие умы этого дремавшего доныне колосса... - Эту же мысль Ч. Валиханов высказывает и в других работах, более подробно в Кульджинском дневнике. (См.: ССВ, т. II, Алма-Ата, 1962 г., с. 68; Ч. Валиханов. Западный край Китайской империи и город Кульджа. - «Дружба народов», 1958 г., № 12, с, 170).
2 Форт Перовский - до 1853 года Акмечеть, город-крепость на нижней Сырдарье, ныне Кызыл-Орда.
3 Левый Фланг - военно-географический термин, употреблявшийся при подготовке присоединения Семиречья и Южного Казахстана к Россия (1850 - 1805 г.г.). Под ним первоначально подразумевалась территория Семипалатинской области, включая Семиреченский край, а с основанием Верного область от Семипалатинска до Ташкента, включая юг и юго-восток Казахстана (Тарбагатайские горы, Джунгарский и Заилийский Алатау, Семиречье, долину реки Или и т. д.). Правый фланг состоял из степных округов: Кушмурунского, Кокчетавского, Акмолинского, Баян-Аульского и Каркаралинского. Правый и левый фланги были определены с позиций управляющего этим краем генерал-губернатора, находящегося в Омске, т.е. обращенные лицом на юго-запад, юг и юго-восток.
4 ...Область сибирских киргизов и Семипалатинская область - образованы законом от 22 июня 1854 года после упразднения бывшего до этого Пограничного управления сибирских киргизов. Центр находился в городе Омске. Область состояла из округов Кушмурунского. Кокчетавского, Каркаралинского, Баян-Аульского, Акмолинского и Атбасарского. В Семипалатинскую область входили Внутренний, Кокпектинский, Аягузский и Капальский округа, а также города Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Бухтарминское и Заилийское укрепления.
5 Внутренний округ (центр в Бельагаче) состоял из земель правобережного Иртыша, начиная от Бухтармы до Кулундинских степей. Эта земля до 1854 года входила в Томскую губернию.
6 ...изобилие здоровых пресных вод делает ее (т. е. Зинлийскую долину) лучшею страною Западной Сибири. - Устарелое и неточное определение, имевшее значение только в «административно-управленческом отношении, но не географическом. Поскольку центр края находился в Западной Сибири (в г. Омске), то часто вместо Казахская степь говорила Западная Сибирь.
7...Высочайше утвержденная 10 января 1849 вода инструкция - Принята в период присоединения казахов Семиреченского края и Старшего жуза к России. В ней изложена политика царизма по отношению к казахскому населению края. По этой инструкции местной власти было представлено неограниченное право, в случае восстания она могла применить жестокие карательные меры. Инструкция до сих пор не опубликована, находятся среди материалов о казахах Старшего жуза. (См.: «Инструкция приставу при киргизах Большой орды и дополнения к ней» (1848 - 1852 г.г.) «Архив» МИД, ф. IV - 3. д. 347, оп. 1, д. 120).
8 в правители Илийского края... - термин, предложенный генералом Гасфортом вместо пристава Большой орды и Алатауского округа. Однако правительством он не был принят. Ч. Валиханов и Г. А. Колпаковский считали более правильным назвать новый край Алатауским округом, а главу его именовать правителем по аналогии с султанами-правителями в западных областях Казахстана. Однако в связи с ликвидацией должности султанов-правителей это предложение отпало.
По новому положению 1868 года Алатауский округ стал называться Семиреченской областью.
Извлечения из (Сборника летописей).
«Сборник летописей» - историческое сочинение, излагающее события, происшедшие в Казахстане и Средней Азии в период XIII - XV в.в. Написано на смешанном казахско-чагатайском языке с широким применением народных пословиц и поговорок, употребляемых и поныне в казахском языке. Текст без перевода издан профессором И. Н. Березиным в серии «Библиотека историков», т. II, ч. 1 (Казань, 1854 г.). В тюркском подлиннике этого названия нет, оно дано издателем И. Н. Березиным. Автор сочинения Кадыргали Жалаири - уроженец Казахстана, из племени жалаир, поколения тарак-тамгалы. Автор о себе сообщает: «Сочинитель этой летописи был жалаирец из рода гребне-тамгового, служивший еще родителям Ураз-Мухаммед-хана». Сочинение Жалаири написано в Москве в конце XVI века и посвящено царю Борису Годунову. По замечанию И. Н. Березина, Жалаири писал эту книгу уже в зрелом возрасте. Это был человек сведущий, умудренный опытом, хорошо знавший жизнь русского общества того времени. Однако «автор умер прежде наступления в русской земле смутного времени, - говорит Березин, - в котором принял участие Ураз-Мухаммед. Иначе он не оставил бы дополнить свою летопись последними событиями». Работа Жалаири дошла до нас в двух списках рукописной копии. В предисловии к своей работе автор пишет: «Эту историю по книге «Чингис-намэ» перевел с персидского на тюркский язык, а другие события, происшедшие в последующее время (XIV - VI в.в.), описал по собственному исследованию». Несмотря на эту оговорку, многие ученые считают сочинение Жалаири целиком переводом рукописи Рашид ад-дина. Между тем известно, что Рашид ад-дин умер в первой четверти XIV века и не мог писать о событиях, происшедших после него. В сочинении же Жалаири, помимо сведений, взятых им из «Сборника летописей» Рашид ад-дина, освещены события, происходившие в XIV, XV и XVI вв., в частности, он касается истории распада Золотой Орды и улуса Чагатая, образования ряда ханств - Казанского, Астраханского, Казахского и других. Относительно первого раздела сочинения Жалаири можно сказать, что местами - это перевод Рашид ад-дина, не буквальный, а сокращенное переложение на тюркском языке, с некоторыми добавлениями автора-переводчика. Причем из текста видно, что автор стремился исправить некоторые грубые ошибки в восточной терминологии, личных и географических именах, встречающихся в рукописных списках Рашид ад-дина. Следует сказать, что сходство названий этих двух исторических сочинений создало большую путаницу в науке и помешало по достоинству оценить содержание труда Жалаири, повествующего о событиях XIV - VI в.в. По оценке Валиханова, работа Жалаири - один из важных источников по истории Казахстана, и в отношении полноты сведений о казахах она занимает одно из первых мест. Автограф Жалаири не сохранился. При копировании его рукописи копиист не разобрал ряд терминов и фраз, допустил ошибки и искажения. К ошибкам копииста прибавились промахи и опечатки издателей и корректоров. Все это отрицательно сказалось и на качестве перевода Валиханова. В извлечениях дан выборочный перевод, сохранившийся в виде черновой тетради. Валиханов стремился сделать дословный перевод, но местами излагал текст своими словами. Из целой книги в 117 страниц Валиханов перевел только ту часть, которая имеет отношение к истории Казахстана. Точная дата перевода неизвестна. Предположительно, он был осуществлен в 1853 - 1854 г.г. и находится в тесной связи с рецензированием других издании И. Н. Березина.»
Глава первая, история.
Повесть: племя огуз разделилось на 24 колена, происшедших от известных его детей, от близких и других родственников, (от тех), которые с ним были вместе. Племена: уйгур кипчак, канглы, карлук и килич. Эти племена были.
Все это известно на основании мусульманской истории, а также по пятикнижии еврейского народаطور نرور Ной, да будет с ним мир! землю от северо-востока до юга на три (части) разделил: во-первых, Хаму (его собственные дети были отцами Судана اوز اوءلاذلارى دودان اناى اوردى или черных - зенги, его потомки в индустанском государстве; средину отдал Саму, он - отец арабов и фарсов; (персияне) или аджем и арабы - его потомки; третий, который (суть) Яфес - отец тюрков, иначе некнижные5 народы, на северо- востоке его потомки.
(Так) Яфеса на восток отправил. Термины могулы и тюрки стали употреблять впоследствии, ибо тюрки Яфеса Абульджа-ханом называют ابودد نان совершенно не зная, что этот Абдульджа-хан собственный сын Ноя, да будет с ним мир!
С того времени все могулы-иснаф и тюрки в степях сидячие его потомки. Его пояснения в таком виде представляются دردر ا،ليذدى Абульджа-хан, сидящий в сахаре, был
Его летние кочевки Уртаг и Кортаг, называемые горы, были, которые очень великие и высокие были. В тех местах город стоит (под именем) Анджа-Там اول يرلاردا ذةرلذ نرور انجاذام и зимовки его в том месте находятся* نتورور; название мест: Юрсук, Кактан и Коркурум وردوق ذاننان ونرض م, а назвали Каракурум впоследствии.
Город Талас и Кари-Кирм دلاس نارى نرم ‘؛ улерка юкрак трур.
Оный город древний и очень великий. Которые كم زردنا видели, говорили, (что) у того города от начала до конца в окружности на целый день, имеет 40 ворот. В настоящее время то место полно мусульманами и мусульманам принадлежит.
У этого Абульджа-хана был сын именем Диб-Якуй. Значение, смысл диб - высокое место престола, якуй - великое, сильное и счастливое племя قوم у этого сына (Абульджа-хана) воинские снаряды ثوكت اسدا и царствование, и все было выше.
От сего отца 4 сына; их имена Кара-хан, Ур-хан, Кор-хан и Коз-хан ٠ةرا نان ,اوران ,كاران ,كاران. Вообще مجموع то племя было неверное, Кара-хан в былых местах отца жил اناسى يورتوندا . В том месте родился сын Кара-хана.
Затем повторяется общая басня о рождении Огуза и о выборе им жен. Огуз женился на двух красавицах, но оставил в почтительном отдалении يراق دا за то, что они не хотели уверовать в единого бога неба, и полюбил, и женился на третьей сестре, кузине своей, предварительно поговорив с ней об условиях своей любви; она должна была поклоняться и верить в единого бога.
Встретил эту баснословную принцессу на берегу реки, гулявшую со своими рабынями, которые мыли белье. Говорится о воине его с отцом, очень сходно вообще с повествованиями Абуль-гази и Шейбани-намэ.
Воина продолжалась 75 лет, наконец, Огуз وا ولوس لشكارذى نؤام داميش وردى لار. ءانيت ألادر ا وءوز اذلارءد ءاوب بوكى، اذلارذذلى ولادنلاردن ذانلاش صورم دبن بنارا ءد ديكاج الدى، بارجه سى اوذو؛ ءد مس،لم بوردى. все покорил от Татлаша и Сайрама до Бухары.
«Те народы, которые с братьями и с детьми были отдельно, разно от Огуза они северо-восток сделали местопребыванием: все вообще могулы их потомки». В то время они (могулы) все были кяфиры, впоследствии их роды большим племенем сделались.
Когда Огуз парод себе подчинил и на царство вошел, в том месте поставил золоченый (шатер); сделал великий праздник (торжество) и своих родственников п почетных в места посадил, всем подарки и честь воздал, и все войска свои в свои места поставил, а со всем народом - племенем ندق قوس بيلان в правой стороне был; уйгуры название дали: Баят با’.ات - могущество и довольство; тамга ункун.
*جادح ٢لذوأرلاخ، ءا؛ أن، . د؛ منا ن اوروس نان
В те времена, о которых мы повествовали, Чингис-хан разделил войска между детьми своими, дав каждому по четыре тысячи. Этому Джучи дал четыре тысячи войска. Он умер на Волге, и все его войско досталось второму сыну, его Бату, этого Бату Саин-ханом называют.
Он, Саин-хан, всеми западными странами, народами Ибирь - Сибирь, Буляр ولار (Булгар), башкирцы دا نذرد نى, русские, черкесы, немецкий курал ذهج كورال Крым, Дешт-Кипчак до Темур-капка называемого управлял.
Сам اوزى также на берегах Волги смерть нашел.
После многих случаев улус достался Тохтагу-хану. Тохтагу тогда был не в ладу с Ногаем (ذوننا ءد نوواى); много раз с Ногаем сражение чинил, наконец, بالاذر сломал Ногая. С семнадцатью некоторымиكللرسا Ногай бежал к башкирам داننردءد ^لار, хотя и был болен.
На дороге русские схватили: русским сказал - я Ногай; когда русские схватили и везли его к Тохтагу, в дороге вдруг он умер اليب كللانور ايردى * وروس تونب الوق:ايغة. Тохтагу несколько лет государем был на Волге, после чего اندلان سونلى Тохтагу умер. ‘ول توذنالاند ‘ب ديدلاردادناه دق قدددى الادلال بويوند ہ ٠ أندلان سونلى توذنابند اولدى. Из его рода никто не остался.
Бачкир-бек при Токбуге великим эмир-беком сделался باذذ توذبوغأ بيكى أولوغ أمرأ۶ بيك دولدى; я читаю последнее слово دولدى словом ڊولدى [был]; после Хуразми-беком был ٠خوا رؤس. Муса с Ямгурчой от одной матери были.
После сего сын Ямгурчи Агиш ا نخثر беком был и улусом он управлял أولودنى أول بدك ى; я читаю أولودنى أولأددلادي; после Хасан21 был, но улусом управлял, Алчагир-мирза الغير درز после Хасан-бека Шидак ثيفاق сын Муса-бека был беком. После Шейх-Мамай мирза улусом управлял, но беком не был. После этого беком (стал) сын Мусы-бека Юсуф-бе.
После (опять) сын Мусы Измаил был беком, и после бекство не выходило из рода его до наших времен, но другие с почестей сошли все. *دأبنان داجى ه٠حهف .نان ون بيك قوندور ‘ولان Было время, когда Кадырберды-хан с Эдиге-беком сражение чинил; из Яика выходит речка Илек, от него три ключа выходит.
Из этих трех ключей на среднем Кадырберды-хан с Эдиге-беком страшную сечу чинил. В то (время) Хаджи-Мухаммед был еще уланом. Один народ другого начал побеждать. Узунбулак-баhадур был высокого роста (написано так, я читаю:).
Стрелы (его) были очень длинны; после Эдиге-беку сообщили: его Идиге перед себя позвал и спросил: «Откуда и куда идешь?» Он отвечал: «Я иду в народ куральский». Эдиге сказал: «Ты будь со мной, если бог поправит мое дело, я сделаю тебя ханом». Он согласился, и в этом походе Хаджи-Мухаммед-улана в войске сделал.
Страшно бились. Кадырберды-хана из золотого лука косо подстрелил ادر دردى نان ذى ا رتوندبغ دوودوءسكعدا ازنى; я читаю وتوندى نازنى وادربردى قول اوغ٨س, после этого пал и Эр-Куша و٠يء اشه; его Нукас-Алтун-баhадур убил.
Между потомками Узбека сказание следующее: говорят будто Идиге-бек тоже убит, Мансур сделался беком и Хаджи Мухаммед-улана сделал ханом; один ханом, другой беком быв, жили, в повествованиях известны между узбеками (املى اوزبيلى يا).
Maнcyp-бeкa убил Барак-хан, после того Хаджи-Мухаммед-хана в один день тоже Барак-хан убил (درأق خانا; я читаю وبراق نان); еще Хаджи-Мухаммед-хана сын Махмутек محهو٠٠لى ханом был, его сын Кулук قو لوق хан, его сын Ивак يباق хан, его сын Муртаза مرت٠٠ى хан, его дети: Джан-Кирай نطکرا ى ساطان, Акметقمتاراى (читаю لح-ا؛-داراى), Кирей-султан и Кучум-xан. Потомство Хаджи Мухаммед-хана кончается.
*بادنان بوزنايرنان بن تولوثيق ’ولان
Булхаир-хан56 в государствах: Ташкенде и Туркестане государем был. Его гробница в городе Сигнаке ١يذذاةدا, его сын Шахбутак-султан ناه بوذاق اطان-. Булхаир-хан был с сыном Нуреддин-мирзы (написано نووءدين, нужно دوراردين) Укас-беком в большой дружбе; говоря так, что из одной чашки пили (мёду), один из одного края, другой из другого, и говорят, что в одно время один хан(ом), другой беком был تيورلار (я читаю يتورلار ا); еще, сын Шахбутак-султана Шибак-хан, его сын Тимур, его сын Кукбури اوك بورى от него Кучум; Союнджек и Габдулла-хан тоже Булхаира-хана потомок, его сын Борhан د ۵ان хан, Джанибек-султан тоже из рода Булхаир-хана; его сын Искандер-хан, его сын ءدد ٢ل٠ه (Габдулла)-хан.
Кучум-хановы дети ءب٠ازدطيف [Габдуллатиф]-хан, его сын نواوذون [Зуннун] султан, султан Сейт-хан, Джумарт-хан султан. Султан Мухаммед-хановы дети (в подлиннике:٠دطان سيد نان جودارت نان اطا ن عههد ١ددطان نرور , я читаю ددؤد اطا:,ذلى اوءلآندرى نرور… (..اط]ن نرور اجوردى ندال طرفيغل> !وديق سوساليق بولوبا. ٠يورور ‘دردى
Эти строки нельзя иначе понять и перевести как султаны… бежали واجوب ايردى на запад* نؤال ارذيند в голоде и жажде будучи там находились; ونلى نادا ورا ول داندى ينم دوادورذى نددن وغ-يرى! в караулы поставили Ятым-баhадура نذم روادورذى после Тубол-байадура ذودا ل دوا د ور’ и после аргына Караходжу ارنون ؤرا ةواجة. Сами же с несколькими нукерами (беспечно) лежали.
Идиге Кучуков сын ؛يديكع كوجوك اوءدى Нуреддина-мирзы войска был; он, нашед врасплох караул Ятим-баhадура, и всех, всех (بربنن بددن выговаривается барин) убил, хан сам в неведении был, так убили واكل شت ه-ا ولى الا ودؤد ود اودتم ؟ب نردون.
Известные и знаменитые дети хана Тохтамыша توق:امش суть:
1. Джелалледдин-султан,
2. Кучук-султан,
3. Джапар-берды султан,
4. Калимберды كام султан,
5. Кадырберды-хан, а дочь называли Джанике جا’ديكه, ее Идигебий взял اددنى د !ودى (в супружество). Когда Идиге-Кучук (?) взял Джанику ايديكه كوجوك جانى: اوغاذدا, Кадырберды-хану было 3 года. Джанике выпросила его у Идиге-бека и однажды с одним или с двумяب رإ و ايكا؛ و يدلع секретно в Крым отправила.
И после 11 лет, будучи Кадырберды-хан с крымским войском через Волгу-реку перешед (٢وتالجيب) с Идиге-беком сражение учинил и в одной битве Идиге-бека убил. Крымского войска главные вожди говорили: «Этот год: лето здесь прокочуем, лошадей в тело приведем, тогда для битв силы и возможности будут более (.ذر يم اثكارى ام/لا۶ أولو۶لال ب-وييل ا’رءىس يايلا٠ش قيلاللى ا توؤز رؤور ذااذك ذا أ ور وشق٠ع قوت شوكت ييدا بولنا ى ).
Это очень не понятно и нет смыслу, я прочитал так: نريمىلئكارى (إذذك.) ٢ملا ولوغ لارى أددى لال دو دل لأل ؟ى ص; это лето ءتل ;دادادو قيلادالى лучше تيم ر ا и т. д. دؤوذم когда зимой قشغيس٠ن пойдем, то и Волга замерзнет сказали. Эти слова не понравились (از ول وزنى ذراتادى؛) Волга замерзнет - кто же не пройдет, Идиге умрет - кто не пойдет).
Волга скоро не замерзнет, Идиге скоро не умрет. Подобные заклятия خروج совершив, страшное сражение начали, Идиге был ранен, хан тоже с раною был, два войска между собою сошлись (покончили) مماف قير لد نى Ичкилин сын أيجكلى ٢ وءدى Хасан держал Идигебия.
Известив Кадырберду-хана, что Идиге здесь находится: пришел и убил. Кадырберды-хан тоже от той (раны) вскоре после того, несколькими днями позже, умер. Тимур-Кутлук بادنان ;ذيمر ذندوق نان دن نيرؤربيلى !ولان
На Идиле (Волге) есть государство Хаджи-Тархан (Астархан)داجى نرخا ندا о нем сказания в хрониках, в разных местах следуют. С Идиге-беком он, Тимур-Кутлук, один хан, другой бек были. (Спустя) несколько времени*, большое потомство оставив, отошли (в тот мир).
У Тимур-Кутлук-хана сын Тимур-хан, его сын Пулад-хан, его сын Кичик-Мухаммед-хан, его сын Ахмед-хан. У Ахмед-хана от трех жен было 9 сыновей. Вот они: سلط ن حسن درزا نذلى قرندائى ديكاى بيكم دى نوءان от сестры Султан Хасан-мирзы (Бикей-бикем) родились: Муртаза-хан, Идиге-султан, Хусеин-хан, Даулет-султан; от Бер-бикема -Шейх-Ахмед-хан, Кужак-султан; نوجاق Джанай-султан; от Уйшун-бикема ويشون بكم ‘ - Сеид-Махмуд-хан, Сеид-Ахмедхан и Ваhадур-султан; Улуг-Мухаммед-хана дети: Махмутек-хан, в казанский народ отправился, его сын Ибрагим-хан, его сын Махмет-Амин-хан, Габдуллатиф-хан и Кауhаршад-ханым كوبرناد ذاذيم;
у Кичик-Мухаммед-хана [еще] были Махмуд-хан, Ахмед-хан, Якуб-султан, Бахтияр-султан. Тимур-Кутлуково потомство кончено. О Хаджи-Гирей-хане40 باستان حاجى كاراى خان сыне* Дулук-Кияс-улана ١دلوك قي٠س, Даулетходжа-улана, Таштемир-улана, Темирходжа-улана, Кара-Куяс-Кобеджек-улана ذره قونا ى كاوباجد اولايد.
После убиения старшего брата Хаджи-Гирей-хана Джан-Гирей-султана он в бегах будя, у Чакырганбая в услужении ،-داءرءان بايغ находился; беки, между собою в несогласии идя, нашед его, Хаджи-Гирей-султана, в ханы избрали року, 906 (от гиджры) в месяце دادى الاذر.
В роде султан сын султана Али-Кул-Чора башлык قل جور؛; из рода оймас Балтадж-бай اوذمش اباذى زنلى بازناج باى с 10 человеками; рода качи Кошай мастер с 10 чел. كاجى اذل نذك قوجاى اوسدته; рода срда Кул-Алибай - 10 чел. ردا اندى نذك قلى ءذى باى; рода чижик Ямгурчи с Кизил-Куртом اًسق ‘ندى نذك ذ۵ضص بيل-ا، ؤزدل ضدت 10 чел.; рода шабчи Джан-Чора-бек в 10 чел. يثابعشى اندى دان جورا بيك рода уанта с родом нурма (из) Кул-Урус(а) и Алика в 10 чел. وذذد اندى بيلان نوردد اندى نذك قل اوروس داءى ءديكه; шейх-заде рода Колуш-мирза в 10 чел. ضلوث; еще 10 чел. из рода акчора; 4 дома кибак-черемыс نورن اوندى كيبالى; из рода таклы Мухаммед-бек ۵لي в 10 чел.; из Старого юрта Джадигер-бай, Касым-Сеид-бай в 10 чел. جادكار; из рода кара-даулет [Кунак-уста] قو”داق اوج ؛د в 10 чел. ى**خيربى ايلزنك بخث٠ذد0 حافظ،; اون اش *; от карагайши Тушанак в 10 чел. توئاناك; рода темирчи Ногай, сын мастера, в 10 чел. Вот которые привезли и избрали в ханы Хаджи-Гирей хана. Конец ذمام.
…называемый был. Этот терме - ونردد (?) на Идиль-Джаике (появился). Его сын Кзиджи نز بجى, он на Идиль- Джаике, его сын Ислам-Кия اسلام ندا, он тоже на Идиль-Джаике, его сын Кадыр-Кия قادر ندا, он тоже на Идиль-Джаике, его сын Кутлу-Кия قوندو قيا, он в Кумкенте ١بذت, его сын Идиге-бий, да будет над ним благословение божие!ءدوؤم اجمعين؛ردؤت أودد .
(Оного) Кутлу-Кия Урус-хан أوروس خان сделал шаhидом. Но دا’ у Баба-Тукласа بابا توكلاس было (еще) 4 сына. Один был государем لأل ظہ в Кагбе, другой лежит около Кагбы, а третий (еще другой) лежит в Хиве اوركانح, а четвертый - в Крыму, на Уч-Утлуке اوج اوندوكداقريلمدا. По другому сказанию روايت, у Баба-Тукласа (более) известных детей было три: один именем Абас ءباس, на правой стороне Кагбы, другой - Габдул-Рахман-ходжа خواجه, он тоже лежит в Кагбе; еще другой же, имя его Терме نردد, он (на) Идиле-Джаике (появился).
Сеиду-Накибу دد ذانب из гроба пророка, посланника божия لدى اودد да будет над ним мир! подали голос; второй Алем Муртаза-Сеид ءدم درنضسيل; третий - высокочудный ءزيز كرادت отец Баба-Тукласа. Когда Узбек أوزبيلى сделался мусульманином, отправил в священную Кагбу Узак-Чору, тогда, привезши этих трех мужей, сделались мусульманами. Идиге-бек управлял улусом Тохтамыш-хана, его деяния حكايت в разных местах, в его дастане, в книгах должны быть.
В подлиннике: اذنك حكايتلارى اوز ادن اذيدا در دردا ثرزكا تيلاساكيدور; я читаю: вместо دادتاندا - ادتانيدا; тоже دونم на берегах Волги ايديل :-ولاندا отошел. Его (потомство) род до Тагаята великим родом отошел. В наше (время) из него явился Уку-Шрак اوكو شراك. Едиге-бек на 63 году смерть нашел от раны, в битве (с) Кадырберды-ханом…
(Они) были знаменитые دوور дети, во многие времена (великими) многочисленными быв, отошли. Дастан Ураз-Мухаммед-хана, сына Ундан-султана сына Шигай-хана, сына Ядек-хана, сына Джанибек-хана, сына Барак-хана, сына Куйручук-хана, сына Урус-хана. Время, которое объявлено* ابا واجداد (предки) Ураз-Мухаммед-хана со всеми родственниками اوروغ ذرننداش в одну пришлись, ибо от Урус-хана до Джанибек-хана четвертое колено بطن.
В то время ان؛ هيران (т. е. впереди) было сказано, теперь также объявляем, (что) его (Джанпбеков) дети до внуков многочисленной фамилией (родом) отошли; ى (та) до настоящего времени много известны (и сильны)ددو م لذكور (смысл этих слов почти один - явны, известны).
Они, каждый из них, несколькими родами будучи را ر اوروغ بولوب’, в своих владениях ولاب государями быв, в счастии отошли (вместо بادشادديق سليب я читаю: بادثاهليق قودوب) ذا ودار بولو ب ا ونتى لار; их ذا م объявлен и кончен.
(Дети Джанибека) первый Касым-хан قام خان, родившийся от Джаганбикем دنان بيش, изрядное время в улусе отцовском он царствовал, все окрестные народы себе обратил. Его деяния в разных местах будут известны и многочисленны. К
онец концов в Сарайчике смерть нашел. И теперь его (بوكون اذوذك, я читаю بو كودا اذوذك) гробница в Сарайчике (находится). Его сын Акназар- хан ض :-طر родился от Ханык-султан-ханши خانئ اطان; его деяния явны и многочисленны. Акназар-хан в междоусобиях смерть нашел, его потомство уже не царствует اذنك ءوءلآن لاريدذن بادشاه يق بوكون تاندى.
Канбар-султан во всех случаях درداڶدا был с Касим-ханом вместе (за одно), был главнокомандующий войсками معدمل٠ لذكر. Его отродью ذ-دىكا царствовать не пришлось بادشاهليق. Усак-хани اوالي خان. Его сын Булат-султан; им царство не далось بادشاه ليق ليكماث ى; конец концов, Булат-султан с детьми в драке ногайской ذوداى ا وروندا шаhидом сделался.
Современник Касим-хана Джадек-хан جاديك نان в битве с Шагим-мирзой на Змеиной горе с одним или двумя بربر ؛وغلى يرلان сыновьями сделался шаhидом. Его гробница в Хиве, на Бакырганате стоит نرور] دنيران أتاد؛], там погребли دفن ةدددلأر.
У Джадек-хана жен и наложниц много было и детей было тоже много; более известные и славные дети суть следующие: Тугум-хан توغو م خان, Букей-султан بوكااى, Шигай-хан شفاى, Малик-султан. Мать этих двоих (последних) была Абайкан-ханша.
Тугум-хан, дети его называются девять рыжих توقون اري (в подлиннике: نوءوم ظن، أندنلى لوغا،(للارى توءوز سارى تيب أدنورلار, т. e. Тугум-хан, его дети девять рыжих называются); с сыном Малика Башикен*-султаном, с девятью рыжими сыновьями в пределах Джагата сделались шаhидами بئات حددند؛’; Утузти وورش ا султан известен и славен دءلوم دنؤور.
От Букея-султана не было потомства. Бауш-Буйдаш-хана сын был Адик-султан أبيلى, его сын Буйдаш-хан. Потомство Адик-султана известно под названием Бишугул - пять сыновей. Буйдаш-хан и все члены фамилии Бишугул - 24 султана в битве с сыном Барак-хана Дервишем сделались шаhидамп. أدا بودد؛ش نان يكرمى تورت سدطان اند؛ نؤيد بر؛ ق أوغلى د رو;ش ‘ ‘ ن ” دوقوشدذد؛ ت ب ا دى يرش؛ وغول ن—بدى.
Пяти сыновьям не пришлось царствовать, اما но в том народе؛ ول ولادت د؛ некоторые (из них) недолго ханами были, но не замечательны и не известны بر؛ذجد اول ق ولادت د؛ بولدبلار كادئة خاتلا, بو لد بلار. Бурундук-хан, его род лишился сана ذام دءدوم مذؤور بورت دى بوروندوق خان نرور،.
Ахмед-хан همد خان; Узбек, иначе Ахмед-ханом называемый, он тоже некоторое время ханом был, в битве с Шидак-беком шаhидом сделался, Урак-мирза اور؛ ق مرز؛ шаhидом сделал. Шигай-хан, его ذوذاى خانذك деяния и всегдашнее богатырство известны и замечательны. Конец концов بر دورو ب смерть нашел.
Его гробница (и) теперь в Кмушкенте كادوش كاذت под покровительство Али-Ата погребли ءدى اتادنلى دناءذد؛ بؤن ندديلار. У Шигай-хана жен было много, известных и замечательных было три орды, от них родившиеся дети следующие: Сеидкул-султан سيدقل, Ундан-султан ونفءن, от Алтун-ханым-баим-бикем إرتون خأتم بايم بيكم (родились); Тукай-хан توكإى خاب, Ишим-султан يثم, султан Сабирбек مابر بيك - ханша, мать этих трех от Джагатовой Яхши-бикем (они) родились.
Али-султан, Сулум-султан تواوم, Ибрагим-султан, Шаhим-султан ذ’۵يم мать их от дочери Бурундук-хана, от Дадам-ханым родилась نادى بوروندوق نازنك وزى د,دم ذانؤدبن نوءان إيردى. Унан-султановы деяния в разных, если желаете, будут; (он) чрезвычайно великий богатырь глубок был.
(Всегда) во всех случаях и в натягивании (всякого) лука (он) чрезвычайный богатырь был. Во время Шигай-хана (он) начальником войска был. Его деяния دكا دت известны и явны.Конец концов, (его) калмыки сделали шаhидом, (в) 30 лет смерть нашел.
Его гробница (находится в Туркестане) под убежищем Ходжа-Ахмед-Есави, да будет милость божия! (там) его погребли. У него жен и наложниц было много. Разные народы покорил и у меж себя тоже взял وز ارالاريذل,ن هم ,ويب ,نددى ا.
Известных и замечательных орд у него было две. От них родившиеся дети следующие: Алтун-ханым, Усяк-хана сына, Булат-султана дочь, от нее родились государь ислама (Тевекель-хан), Ураз-Мухаммед-хан, Татлы-ханым اًتاذدى خانم; Чуюм-ханым جويو٢ خا”ل٢ дочь Кимсен султана, сына Бурундук-ханова كيهسين سأطان, от нее родился Куджек-султан اجك; он у государя ислама, Тевкель-хана, начальником войска был, он в том народе по сие время обретается.
Ураз-Мухаммед-хан восьми лет лишился великого деда своего Шиган-хана в смятениях междоусобных, еще ذنى (в) 13 лет свои отецا و؛, بأ با ى Ундан-султан шаhидом сделался и от него остался; еще* через несколько времени несчастием تارايق بدلان перед Сеидбек-бием سيد بلى يى перенес угнетения (унижение) كرؤتارريق و٤تى-. Шестнадцати (же) лет явился готовым к услугам государя всего кристана Бориса Федоровича اون أ ل٠م٠٢ا يا ثيندا جاملم٠ش ا هلط ن بادشاه باربذذب فيدرأويج نينلثة قوودوغيند د؛ذر بولنى لار.
От того времени до сего был к службе государя Бориса Федоровича готовым; господин государь тысяча по тариху, в конце года свиньи помиловал раба (своего). Был год мыши, звезды были под برج месяца великого рамазана, 15 дня, по воле Бориса Федоровича, всея России государя, направо, налево приближенные*, церемонные беки стояли - описывает представления Борису, который дал ему в удел Касимов, сделал подарки и оказал внимание ثاه نغدرذلارى لآ£ورذاللار انحا م لار بحش قيلدى ، كرمان دبرين قدديب بردى и ٠سبورغا.
Подробно описывает приезд Ураз-Мухаммеда в Касимов, с толмачем-алпаутом и о избрании его в ханы тариху 1000, году мыши, счастливого месяцу зюлхадже, 10 дня, в четверг ١سجشذبه, когда ему, Ураз-Мухаммеду, было 20 лет (см. стр. 166 и 167).
Вحا٠مع ا رتوا رخ (стр. 170). Правая и левая рука (крыло) Урус-хана (изображена так): ميسره (левая), ميراد (правая). الاج ٠ذكى اثوام قوم алач-мены - 3 сана (большое число); اقوام قوم канглы - 2 сана. У народа канглы между ними до сего времени знатные есть اولوغ لارى محلموم ايرور.
Но между алач-мены старшие с гребенчатой тамгой джалаиры должны быть بورئا ى. Со времени Чингис-хана, через разные степени مرب مرتبه ييلان (старшинство) досталось [сначала] Тебре-беку, от него Шейх-Суфи-беку, от него Айтули-беку, от него Итбака-беку, от него Карач-беку досталось, от него Конка-беку ،،-قونئ досталось. В этой алач-мены старшими были они, [да] между узбеками известны и уважаемыبولار برور’ ا ونبيك I بولاج منكى تينك اءاس بولا كيلكان يااراذدا ماعلوم مدوور نرور. ا رتوا رخ جادح стр. 168.
Изображение престола хана касимовского Ураз-Мухаммеда:
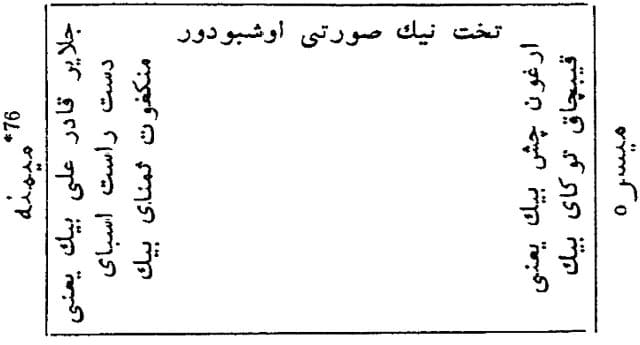
В средине надпись: «Вид престола этот»; на правой стороне надпись, на левой ميسره, что значит, по объяснению самого автора: правая и левая рука. (См. стр. 170نحذى قول، ميره ول قول ايرور ډمي). На правой стороне означено место джалаирца Кадырали-бека и Исбай мангута Саманай-бека. Зачем тут نمنى دست راست и на стороне نض دست دب ميسره ?
На левой — имя аргынца Чиш-бека и кипчака Тукай-бека. Затем (стр. 169) заключает в себе описание набожности и تلق جام благотворительности Ураз-Мухаммед-хана и оканчивает его словами: بو٠ سببدين اندينكو٠دكا ادثا٠ اسلام ناهر الدين ابو اردنح اوراز محمد خا’دغع دولت اقبال بيلا ن ل !ثاب يوز يثاب ى اب الابد كاجد دوك انكا يار بولون * ا نثا الاد نما ن ص يا رب العارس سبب اولتوروركم, كم بو تواريخ قه ا ورا ز محمد خان حشرتلارى نينلى اتا ا ناسيد ون قوللوق قيله كيلكان جلاير ترأق تهفالى أيردى.
Эти слова замечательны: автор говорит о себе: «[пишущий] эту летопись (دو نوأرخ قه * что-нибудь недостает…) от отца и матери Ураз-Мухаммед-хана для службы (к нему) приехавший был, имеющий гребенчатую тамгу, джалаирец». Далее: (см. стр. 170).
«Из книги Чингис-намэ с персидского на тюркский язык переложил, которое случилось после, из своих познаний, при божьей помощи إوز اس:ذباحلذدين ؛ لرد نحارى ذوذيق بريب تمنيق نادى сочинил ради восхваления (скоро прошедшей ا..ذوزأوذؤاك) справедливости государя Бориса Федоровича… кончено». З
атем говорит о содержании своей летописи. (Автор) прямо говорит родословную Кадырали-бека, озна-ченного на правой руке: Кадырали-бек, сын Хошум-бека,сына Тамджек баhадура, Иранджи-баhадура, сына Адамшак-мирзы, (брата) Карач-бека, сына Кубая, сына Канбара-мирзы, сына Айтули-бека, Итбака-бека.
Во время Чинзгиса был Сартак-ноян, его дети джалаир Сба سبا, его потомки джалаир Тебре-бек نبره بيع; его потомство Шейх-Суфи-бек, а его потомок Айтули-бек известен и почтен لأروق ٠شتلرد ور; у потомков Урус-хана великим эмиром был –اولوغ أمرأ۶ بز٠رحف.
Язык جاد. ا رذوا رخ совершенно джагатайский, очень близкий к нынешнему киргиз (-кайсацкому), имеет, впрочем, несколько слов и оборотов не совершенно ясных. По своему изложению она (книга) также замечательна.
Здесь басен менее, нежели в Абульгази и Шейбани-намэ. Начало, или слово Борису, написано языком очень понятным и довольно витиевато, во всяком случае это замечательный памятник татарской панегирики.
Слова и обороты очень замечательны, многие речи до сих пор существуют у киргиз*. باب اول د لغءد — ا;,مبدد اودان ا؛أل:’ب ح؛عي أ رتوارخ د وو. Довольно ново в татарских хрониках перечень племён не книжных, а сидящих в степях, причем говорит о их происхождении и местах кочевок и разделяет их на тюрков-монголов и монголо-тюрков* (см. стр. 16). نصل اول* здесь у него, вопреки тюркским историкам, Яфес делается младшим сыном Ноя и порядок старшинства детей этого патриарха совершенно библейский.
Абульджа-хан поوتواريخ I جأ دم есть имя Яфеса, отца тюрков, Диб-Бакуй и Бакут его сыны. Целый ряд имен от Диб-Бакуя до Огуза пропущен. Автор говорит только, что Ной Абульджа-хана отправил на северо-восток и ханы: Кара-хан, Ур-хан, Кор-хан и Коз-хан там от него произошли بولار اندا ديل! بولدى.
Миф oб Огузе удержан вполне: от колен, отделившихся от Огуза прежде и ушедших на восток, произошли монголы, а оставшиеся и ушедшие на запад - суть тюрки. (См. стр. 13.) О происхождении племен кипчак, канглы и клич.
Истории предков Чингис-хана и особенно его жизнь и походы рассказаны довольно точно и с хронологическими цифрами. Замечательно затем разделение войск при Чингис-хане на правое и левое крыло, туманы, тысячи и имена беков и ноянов, ими управлявших, и особенно извлечение из Ясака Чингис-хана.
Также замечательно толкование автора значения слова Чингис. نجوك بادشاه لار بار ايردى بو اقليم لز هر بر سى سين كور خان ديب ايتور ابدى ٠ انلار ساشك قولونكدأ .٠قعور بولدى لار وننك اتينك بو دحنى د دن جذكك{لى ‘يردى. دمنى بادشاه لار بادثا۵ى بولد ونك и т. д. (стр. 21).
Слово Борису написано почти на чисто татарском языке, без арабских и персидских (слов), в остальных главах встречаются довольно часто, но вообще автор избегает их. Грамматически принятых форм и правил совершенно нет, одно и то же слово в разных местах встречается различно تدب - ديب (диб, тиб), стр. 20; درلا - بددد (биля, брла,) стр. 21; بددد ن (пилян) ,стр . 20 иبيلا ن (билан), стр. 24; на стр. 21 окончание قه حق, на стр. 22حق ءد , عحب ند [хақға], (ғажабқа); بر٠جد (барджа), بيرود (бирча) стр. 22 и т. д.
Особенно разнообразием письма отличается окончание родительного падежа نينك (ниң), نذاق (нiң) (стр. 23), زك (мүң); часто при окончании дательного падежа впереди слова стоит تا (та) и в конце ديكاج (дигач - то и другое означает до) جنوب ددن تا ثمالغع ديكاج.
Та же частица تا (та) заменяет иногда окончание ءد (ға) يافث٠دىكون زءوش ذا واردى. Попадаются также и частицы ندا (тана) или ذا (таба) (стр. 23). وغور ذبا اطلآىكون توءوش ندا مقام ادتى لار’*– Есть также в книге много мест довольно темных, происшедших, нет сомнения, от ошибок переписчика.
Очень часто или почти (всегда) буквы ﯤ (й) ݕ (б) смешиваютсяيراق خان - در’ق خءن (Барак-хан - Йарак-хан); вместо يراق (йырак) لازا ق (йызак) (стр. 21); (вместо دلاب باقوى - Диб-Бакуй) - ديب ياوى (Диб-Якуй) и проч.
Вместо прошедшего и настоящего употребляется будущее время (см. стр. 19) قرقور م (Каракорум). Из слов и оборотов, встречающихся у киргиз, я укажу на некоторые (стр. 16);رمانه دا (заманада) место (заманда - в то время] и последующие: ٤خاذلار’لذلى قوت دودت لارى اوتين ولايت لاردا اتى جاولى اتى جاولى جيفتى (стр. 17) произносится аты чууы чикты – имя громким сделалось.
Помнится, один стих плача жены по мужу اق نايزانلى تور ق ياولى — اتى جاولى اياولم; (аяулым) происходит от глагола أياولم (аямақ) - жалеть). Автор вместо татарского ﮒ ا ور (өзг) или بانند (башқа) другой употребляет و”دكين ا (онген).
Киргизы употребляет все эти три слова для выражения (слова) другой (стр. 24). *نجوك بر يدادى الارسا لانايتاا رو صاحب لداد ولوب صورتل.يغبو Слово ارو (apy) - чистый; хороший у киргиз не употребляется и совершенно им не известно, у них есть только глагол اًرولاماق - омывать покойника, но тем не менее в древних киргизских поэмах встречается; Урак, герой одной поэмы из времен Золотой орды, родом конрат, обиженный в разделе добычи, взятой от русских канглами, которых было много, жалуется на свое одиночество и говорит:
ك-جمك (кечмек) -переправиться, يايلاق (яйлақ) - летние кочевые места и قيئلاق (қышлақ) - зимние стойбища. Юрт - народ - دل (эль,) но юрт имеет у нас еще одно значение: место кочевания и стоянки (тоже) называется юрт, в этом смысле употреблено и здесь,قرا خان أتاى تورنان يورتوندا لربى قرا خاندنلى اوءدى توءدى اول يردا (стр. 20).
Некоторые слова и обороты мне не известны, по крайней мере в языке киргизском не существуют. Значение слова بذكر [муңкәр] мне не известно, есть у нас словаدذترل و [меңреу] — идиот, простак (стр. 21); (مذم) دذذك .سونودنى ت_ذلادى م ندنر بوودى . دوبون بايازنلى نح.خاتونى الان قوا انديغ ا يردى.*.
Значение ندد здесь я не могу понять. Слово تا بوذى [поклоняться] употребляется здесь в смысле поклонения единому богу, но татары и киргизы слово это употребляют для выражения поклонения идолам, огню, луне и проч., которое между ними до сих пор существует.
Говорят, ،بوتقه ذالوذى *, но о боге едином (алла употребляют دناجت ١لذدا ك ٠ دنؤا ق، قو وح لق * и проч. Автор пишет и бек, и бий и дает бию переносное значение разумного, умного человека (стр. 20). О матери Огуза اول خاتون كي٠ بى وادنا .
В этом смысле киргизы говорят ل٠ا’بىكل*, от бий есть у нас глагол بى ولى [билiк] — суд, удовлетворение, не отсюда ли بيلا مك [билемек — управлять] (стр. 20) دريا ؤر يغى [дарья қырығы] в древнекиргизских поэмах ذرا ءى; этого слова у нас теперь не знают. У нас говорят ة’أباذى (қабағы – берег) и ياءاس (яғасы – берег).
Слово يازى (язы), как видно из следующих примеров:ي١ زيغا٠ اتند جونتى (стр. 22), زول يازيد’ اوروغ لئكر ننددى * имеет значение: степь, поле; (вместо يازى ) киргизы говорят ازيق поле, гладко - в переносном; слово يازى (язы) не знают.
ذود سو (қоңсы) у киргиз - бедные, живущие при людях достаточных и богатых; ذوذلى و قوناق (қоңсы қонмақ) значит соединиться или присесть к кому-нибудь (см. стр. 23) آ بر بغى قوذك شوسى با ر ‘ يرد ى; (стр. 27—28) برييا ا ارا ٩؛ وند دن ذروين لار قمش لار يينيب سال بغلاب درذانى زبنى.
Слово قرجين (қырчын) как название растения у нас не употребляется, хотя в той же поэме «Урак» и говорится قوم ند لقهل لتكان قوبرجون كيوب ‘لوب ال ايتتوم *, но на мой вопрос, что значит قوڍر جين (қобырчын) самые почтенные староухи ى رى قولاق не могли сказать ничего положительного.
На озере Балхаше, в песках Аккум и по Чую, говорили они, растет болотное растение вроде тростника, но тонкое и очень легкое. Киргизы его называют копа и употребляют на лёгкие плоты. Собственно корджун есть название дорожных мешков. Можно бы тут допустить и это значение, но слова برنيا ‘ر’سيذدين ييرذيب совершенно делают не уместным такое положение.
وبارليق’ با۵ى ريق’ بيادرليف، قوت ئوك بذ اىليق ءيش وذر’ نت بس قوى معغل٢ ‘ وروغ نابثا٠ تيرالي بولور) *وى حال انردولار *. Слово ما ل (мал) никогда не встречается в сей книге без добавления توار قرا [туар қара], должно полагать, что تو’ر слово древнее, заменявшее слово ندنى (илки, жылқы).
Нет сомнения, что все слова и термины кочевой жизни должны хорошо сохраняться у киргиз. Под словом ما ل киргизы разумеют вообще скот - в смысле богатства, который прежде составлял единственное богатство киргиза, теперь же это слово употребляется в смысле вообще богатства, а один скот - простой قرا (қара), а توار قرا есть название табунов конских; تو’ر однозначное с ندنى. Молодые киргизки, вышедшие замуж, не могут называть по имени всех своих родственников и киргиз, старших ее мужа, всего рода, к которому она принадлежит, почему и киргизки всегда дают им имя, составленное из других слов, но имеющее прежний смысл; вместо имени وروس ا (Урус) говорят (кесче) или (чуас) и вместо имени للمقى اى (Илқыбай, Жылқыбай) говорят توالباى (Туарбай) и проч. Этот обычай у некоторых баб переходит в ужасные пределы.
Есть такие ханымы, которые совершенно избегают всякого звука во всех словах, напоминающего сколько-нибудь запрещенное имя. Так, если заветное имя было, положим, Айбатыр, то для нее со¬вершенно не существуют слова вроде اى, и пр. (стр. 33). قامجى بوبندوغ ؛ ير ا وءول نى قويمادى* - сравнение камчи бойлуг и теперь в полном употреблении; вы часто услышите от киргиза ى آ ماندا من قامحى ٠قل،بويتلى بالا ايديم*.
На стр. 33 в строке 10 по ошибке вместо ي стоит б: باريب جيب — ؛حيب باريب وزوب زدماك. Эти три слова выражают бедствие кочующих племен, подвергнувшихся чапу [нападению] или баранте. Первое слово происходит от اج لق (- голод, второе выражает истощение от принужденной диеты - подготовление лошади через диету на байгу (в бег) – (и) называется у киргиз сجار؛ و ان، جاراتمق (жарау ат, жаратмақ) - название подготовленной так[им образом], вообще не жирной, но (в) совершенно нужной степени (лошади).
Словарь не употреблящими(ся) теперь татарами словам, попадающимися в
|
тюркские и монгольские |
арабские и персидские |
|---|---|
|
اور وغ - семейство, род, прозвище, название قوم - племя أواس، دار أو دوس قوم كائرتى - )многочисленность, множество) اوتهدى - пройти, в хрониках употребляется в смысле прошедшего бытия, так говорится: بسيا ر اولوغ بولوب اودنى لار — чрезвычайно сильным быв, отошли [в мир иной], т. е. были народом сильным; то же значение имеет слово كسلى - переправиться, отойти. ا ممل، ا بدى - происхождение, корень ايرى - муж ادر - мужчина, храбрый ذود - сколько? много, как, насколько, в смысле равно, также معذل ق - совершенно, полно, все توءان - родственник, )родные) تونان اذ-ا٠ اينى - братья старшие и младшие تا - до, пока كيم - (до тех пор пока تا كي) بيدا - (появление, возникновение) نل - род, потомство ى٠وذكر0,سوذكرتدن - после, впоследствии دحرا دا اواتورماق - сидеть в степях سنرادا اواونروندوق قوم - (племена, живущие в степи) يا دلاق - летние кочевые места قين لآق - зимовые места ادنالاسى – (окрест, вокруг) قوت - счастье قوندى. قوندزلح - счастливый, от него قوندوذلامق - поздравлять كوج- сила, от него - لاوودولن ا رتوق - лишний, больше, выше; сравнительная степень - ارتوذراق د زر لا — юрт, народ, равнозначное يورتى ء ادل - место кочевания племени, место стоянки, в таком значении употребляется и у киргиз, в таком же употреблении и здесь: ذرا خان اتاسى تورنان يورتوندا ايرد ى، ا ول يرد ا قرا خانينك اوندى توذرى. (Кара-хан находился в юрте (в местах), где жил его отец, там же родился и сын Кара-хана]. Слово اول دردا совершенно доказывает предпол(агаемое) мною значение слова يورت (с. 20التواريخ جادح ) ايهما|ئ - сосать здесь свое правописание ايهاك. تابوتمق - поклоняться божеству, в настоящее время этот глагол употребляется у татар-мусульман для выражения поклонения идолам بوذذا تابوتها - ق, но здесь стоит в смысле поклонения единому богу بى - то же, что بك и судья; в переносном смысле: всякий разумный человек.١بىكشى,بى خاتون от него بودك - суд, удовлетворение и управлять ىلامك. ب ا قلا نمق - опасаться, принять осторожность; в جادح اكواريخ в том же смысле поставлено слово ا قلا ند ى (остерегался) (с. 20) دون توى ق – (дружить) قرنس لزا قريغى - берег реки در يووما ق - мыть белье بذراق - даль, далеко لار]ق تورمان – (находится вдали в переносной смыслеJ быть холодным, не расположенным. نيا؛ - (нуждающийся); حق قه نيانلاق ايردى – نيازوق – (стал нуждаться в Боге) كيلون - невеста, молодуха, (невестка, сноха) خاق - (ясно, очевидно) ا باق جى - доказатель, свидетель (стр. 24) لشكر تارنماق - войска вести مغاه - местопребывание; вроде киргизского مكن (местообитания) قريندانلآر - родственники, с этим окончанием وزوءلارون ا слово великий ولوغ ا означает вельмож, буквально: почетных. ا لتون - золото ﴼتوكى - золоченый, с золотом, а не золотой, тогда должно быть:ارتون توى - пир, праздник, торжество: ويادشاه ليق تيكدي ا يرسا اول يرد ا ا ا تونلى خرماه لكد ى، ا ا لوغ توى قيلدى. جادح تواريخ ا ا (стр. 24) - (Если бывали торжества или возводили на престол падишахства, то там ставили золоченый шатер и устраивали большое пиршество) ورون ا - место; اوونلدغز ا ورندند اولتورتدى (с. 30) (взошел на достойные места) قر ا ن كامكارليق – (почитание Корана) جبا ر لوق - (величие, слава) سي-اهى ا يق – (военнослужащий) دواد ر ا يق – (отвага, героизм) (يانلآءانلار، يا ثاءا نازر) - نح ع جاقلى (прожили долгое время) ويلنلى تو نكلوكى ا - (отверстие вверху юрты) ارو ومره - чистый مال ودنى تو) ر ذرا – (богатство, т. е. кони) جارما ق - у киргиз части, расстилать, развешать. В ا[توا ر نلج جام ع (с. 32) слово это встречается под ортографической формой ننار ايردى مالين توار قراص كوذكلى تنما ق - быть довольным, успокоиться توكا ل - полон, верен в числе يسير أيتما ك - взять в рабство детей, жен разграбленного племени (у киргиз и др. татар) قياس قلها ق - в кабалу взять و]طذ قلهاق] - сделать пристанищем دنبول - лучший, превосходный نتل قلها ق – (убивать) و’دحو ليلدءا - храбрость (с. 41) بثل؛ترليق ربلان وكونكود ليك بيلان دئود بدلان بيار توقوس قلدى – (храбро и с отвагой много раз сражался с монголами) دناذ - возле, рядом سيوركار *ا أدردى - оказывать почести, наделять قارما ق -состариться قاريبايردى - أكرجة - хотя بويو و’للوغ – (подчинение, покорность_ كيئكاش - беседа, совет ديورءا ل - подарок или выражение существенное любви или расположения. Из слова انى بيار سويورءار ادرد ى и из слов Т(емир) К(утлукова) ярлык(а) يورءاب достоверно видно, что существ(ует) глагол يورءاهلى, у киргиз سووركامك и от него يوركا ب есть местное изменение глагола سيورءامك Оно имеет значение призреть, пожаловать, вообще покровительственную любовь и милость высшего. الاذا - низкий, меньший ростом; у киргиз говорится ٢لاا داكزہ - чистая, чистота. По свидетельству автора جامث التوا ردخ أ وتبين .كذةد - значит младший в семействе. то же, что киргизское أذا. Ему должно было принадлежать все имение от отца и материأ ٠لا ديسك أونى’ بورتى’ مالى تو’ رقر’ سى، أ وى ن لك٢ ,كصك وءلى ءة قالور ا * - (44 .стр) و؛ ماق ا - перегнать أﮏر - седло أوفكا - أوبكا - أ وبكا لا ملى - (обида, обижаться) قو ء قوى - высокий, великий, слагный, превосходный قو حا ل - прекрасное состояние نكون ونى أندين سونلى – (затем, после этого, впоследствии) (стр. 73) |
برمايى - (подробный) تبعد - [подданные, подвластные} ذنصيل دا دءذوم ترور- [в изложении становится ясным] قسم – (часть) مغول ؛ درما سى ؛ يردى ند — ‘دد [не являлись монголами] لهجة – (диалект, язык, слова) بو ونظ سونلى زہﴼا ند] جدذذى (это слово появилось в позднейшее время). تاجيلى - (таджик) ءنايت - (заботливость, благорасположение] ءا(ب - (побеждающий, победитель). هذو-ر - (теперь, еще) ;اك - многие مخصوص – (особый, присущий, относящийся] موجب - порядок, в виде شبل جسم( - (синеокая плоть, синеокий дух ангела] دنو ب – (родство, относящийся к кому-либо, чему-либо] حكايت – (рассказ, повествование) نذل - (как рассказывают, передают) مبطور نرور - (известно, подчеркнуто) جنوبى ، ج٠دوب - юг شما ل - страна северо-восточ(ная) عهلمكت - (страна, государство) دنق , (доискивающийся истины) دذذق – (согласный, единодушный союзник] ادنا ى - (род, сорт) نذر ير قدنندى – (изложено, заявлено] هظيم - (великий) ہ د روا؛ - ворота دذيم – (живущий, обитатель) نادح - (подданный, подвластный) ضب - (высокая должность) شوكت – (могущество, величие) от него شوكت ا سب مدموع - (собранный, соединенный, целый) نزردع - стр. 21, пример: ٠د - (любящий бога(, (دب حق قه بولانك) [если с любовью отнесешься к богу( اشكارا - явно, открыто وخايت – (весьма, очень) صاحب جهال - (красивый(, господин красоты ذر زند ‘ дитя, мальчик стр. 20 ءجب ‘ удивительно بموجب و؛ ى رسيده ولادى٠ ءاقلة4كيردى اثر ارثاد تعالى دين ايردى - (смысл его слов дошел до нее; она осознала и последовала по наставлению Всевышнего Бога). ذالات خوب – (очень, чрезвычайно хорошо] تميحت – (наставление, назидание) ا ل;غا ت – (внимание, расположение) دبت - (любовь) كنيزلئ – (девица. служанка.), наложница صحبت تيل ماق – (беседовать, вести компанию] مطع و يواماق - покориться кому-нибудь, согласиться с мнением موا ذنت - (согласованность, пригодность] دركه - (шайка, общество), стр. 22 اويناسا يوردا دحرى دا اول تددنى الاتور ايرديلار - [во время групповых игр. прогулок - пользовались этим языком (жаргоном)] نيرت لا نمق – (воспрянуть, возгордиться] ذربت – (момент, удобный случай) ءطوم دنبل – (счастливый) انناق قلماق - намереваться, намерение иметь. وقيق بولما ق -подготовленным быть, предуведомленным быть ذى ا لحا ل -тотчас, тогда же مذر قيلماق - покорять, достать خرما ٠ - шатер ا ذو’لىذرما٠ – (золоченый шатер) ولا يت - (вилайет) بادشاه [يق تيكدى - престол дошел [достался] خلدت – (пожалование, почетный халат] خزءتءلار دوورءاﴼلأر بردى – (почетными халатами жаловал] (с. 24) ذممت دوﴼت - (благодеяния, власть) ا ا بتت - начало ميسر – (способствующий, делающий доступным] قوت شوكت – (величие) ءيش - (жизнь, радость) ذر ا ءت ا دق – (отдых, покой) مدق - (жемчужная раковина, перламутр] ءواه - водолаз حاصل بولماق - (получаться) بح ا ن راين - بشت يااغ - (чистый телом и душой; чистый помыслами) دندمات - (прежде, раньше) نذر ير - (рассказ устный: утверждение] موجود بورماق - (существовать, быть, присутствовать) وغارت ا - (знак, намек, сигнал) حأإهكلتورملثة - حامك بوداق - быть беременной مع:بر بزرﴼ، - (многоуважаемый) تواريخ - хроника مشارح بولماق - наступать مداجا ت قلؤاق - воззвание - (с)низойти روأ يت - сказание قويما ق – (трогаться, подниматься, отторгнуться] أوندين قودناج – (соскочить со сна, вскочить с постели] رولار - повествователи روى رمون - земное лицо ءدد قيلدى - завещал جانب - страна, (сторона) أعظم - величайший معجز ہ - чудо كوذيت_ - дело دحروى ومث٠عور - известно и ведомо - (более отвратительный, самый презренный] بولد ي г مسحر ومسل -вручено и отдано |
Источник:
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е издание дополненное и переработанное, стр. 228 - 254







