Вы здесь
Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатая.
«Кстати, говоря о еде, я должен сказать, что, благодаря необыкновенной любезности и предусмотрительности семейства Полторацких, мы были совершенно избавлены от всяких хлопот касательно стола: нас пригласили обедать раз навсегда у них, и если кто за недосугом не мог явиться, тому посылалось кушанье на дом. Я потому упоминаю об этой предусмотрительной заботливости, что в таком городе как Семипалатинск, где, насколько я знаю, нет ни одной гостиницы, это была во всяком случае немаловажная услуга. Но она должна остаться на втором плане, сравнительно с тем радушием. с каким мы вообще были приняты в этом гостеприимном семействе, где с первого же часа мы почувствовали себя как дома. Этому много способствовало то обстоятельство, что любезные хозяева говорили по-немецки, по-англииски и по- французски, так же свободно как по-русски, и мы могли вести самую непринужденную беседу, представлявшую для нас весьма много поучительного.
Вся семья Полторацких обладала в совершенстве знанием местностей, которые составляли цель наших стремлений, и таких же знатоков встретили мы и между посещавшими дом офицерами. Сам генерал, известный путешественник, совершивший еще в 1867 году, вместе с бароном Остен-Сакеном, переход через Сон- Куль и Нарым, главную цепь Тянь-Шаня, на расстоянии 7 миль от Кашгара - ежегодно, по обязанности губернатора, совершает поездки по Алтаю, вдоль китайских границ, и в этих поездках его нередко сопровождают супруга и дочь.
Рассказы, которые нам привелось слышать из дамских уст об опасностях путешествия по этим диким местам, казались с первого раза невероятными, но превосходные фотографии, мастерски снятые генеральшей, устраняли всякую тень сомнения; и впоследствии мы неоднократно имели случай удивляться способности этих дам переносить такие неудобства и лишения, о которых наши альпийские туристы не в состоянии составить даже себе понятия. Впрочем, симпатия к путешественникам-натуралистам, так сказать, врожденна в этом семействе: заслуженный и неустрашимый исследователь Тянь-Шаня, зоолог Северцев, как известно, зять Полторацкого. Всего приятнее была для нас перспектива снова встретиться с губернатором, на южном склоне Алтая и, уже следуя вместе с ним, совершить путешествие по этим интересным горам. Прежде, однако, чем расстаться с нами, г. губернатор оказал нам любезность, устроив охоту на архаров в Аркатских горах; - охоту, которая, разумеется, представляла для нас большой интерес. Так как при значительном числе лиц, принявших участие в охоте, почтовых лошадей оказалось бы недостаточно, то супруга генерала с дочерью выехали двумя днями раньше, в сопровождении полковника Халдеева и других лиц, с тем чтобы и в пустыне не дать нам почувствовать отсутствие хозяйки дома».
«Путешествие в Западную Сибирь доктора О Финша и А. Брема». 1882 год.
I.
В августе прошлого 1870 года моему мужу предстояло объехать китайскую границу, а так как по маршруту приходилось быть в долине Верхней Бухтармы, в четырех переходах от Белухи, нашего алтайского Монблана, то решено было пройти на ее ледники, и осмотреть по дороге Рахмановские серные ключи.
Предстоявшее путешествие было до того интересно, что муж решился взять с собою меня и десятилетнего сына. С нами поехали еще: переводчик Осман, некто М. и пристроившийся к нашему обществу, путешествия и охоты ради, замечательный стрелок, ездок и охотник Ж-в (А. П. Железнов. - rus_turk.); из прислуги только повар.
Эти господа отправились из Семипалатинска тремя днями ранее нас, с обозом провизии, подарочных вещей, наших седел и упряжи; так как в степи если нет своей упряжи, то лошадей запрягут первобытным способом, привязывая к экипажу за хвосты.

Переезд от Семипалатинска до Усть-Каменогорска не представлял ничего замечательного: Иртыш и степь; правда, не наша, песчаная и печальная Семипалатинская, а зеленая и покрытая цветами. От Убы местность делается более и более гористою и вдали за Иртышом показываются три остроконечные вершины Аир-Тау, по-русски - Монастырей.
Усть-Каменогорск хорошенький городок, с широкими, поросшими травой улицами и маленькими, по большей части не обшитыми тесом домиками, - в Петербурге сказали бы - домишками. Смотрит он уютно и весело, и несравненно более русский город, чем песочница Семипалатинск.
Даже в отношении зданий Усть-Каменогорск далеко превзошел убогую столицу наших мест, напоминающую своими улицами с покосившимися на бок домиками, без крыш и с залепленными бумагой, точно бельмом, окнами, ряды оборванных и общипанных калек, стоящих в две шеренги на папертях.
3-го августа мы выехали из Усть-Каменогорска большим обществом, поехавшим нас провожать. Дорога до перевоза чрез Ульбу отличная, и мы катили в трех тарантасах так, что именно только пыль столбом. С переправы, верстах в пятнадцати не доезжая Ульбинска, дорога делается гористою и удивительно живописна; растительность необыкновенно роскошна и разнообразна.
Едешь точно парком. Самый Ульбинск лежит в глубокой долине по берегу речки Ульбы, на ровной и бесплодной площадке среди гор. Хозяйки приезжают сюда варить варенье и делать наливки, так как здесь много ягод (смородина, малина и клубника), больные - пить кумыс и спасаться от лихорадок и грудных болезней, которыми Семипалатинск преизобилует.
Просидев часа четыре в Ульбинске у омских знакомых, которые тут лечатся, мы отправились далее верхом по ущелью Проходному до пасеки Ш.; проехать эти десять верст верхом наслажденье, а в экипаже можно разве в виде искупления очень тяжких грехов.
Мы выехали кавалькадой в двенадцать лошадей. Ущелье дивно хорошо; узкая дорога извивается между скалистыми горами, местами поросшими травой, местами целым лесом ели и пихты. Вдоль дороги бежит ручей, местах в двадцати перебегая дорогу; по сторонам его густо заросла черемуха, жимолость, акация, шиповник, рябина и смородина.
Скоро солнце зашло за горы, потянуло сыростью, стало свежо; мы, бедные семипалатинцы, привыкшие, - нет, привыкнуть нельзя, - а принужденные дышать песком и пылью, сухим воздухом, прокаленным сорокаградусным зноем, с восторгом вдыхали этот влажный, ароматный воздух - точно камень сняли с груди.
Сквозь легкий туман ущелье казалось еще прелестнее; отблески севшего за горы солнца золотили небо и вершины скал, сквозя сквозь густую зелень пихт и елей, стоящих щетиной на гребне горы. Особенно хорош вид на седьмой версте от Ульбинска: дорога делает крутой поворот, ущелье суживается более и более, и будто замыкается высокою стеной, покрытою темным лесом; из леса вырезается громадная, голая, седая скала; у подножия ее, сердито крутясь между камнями, сверкая сквозь ели, бежит и падает каскадом ручей; на противоположной стороне высоко громоздятся красноватые скалы самыми причудливыми, фантастичными формами.
Полюбовавшись этою прелестною картиной, мы, дойдя до ровного места, пустили лошадей вскачь, и скоро доскакали до пасеки, уютно приютившейся в боковой зеленой долинке. Центр ее составляла хорошенькая восьмиугольная беседка.
Сойдя с лошадей, мы уселись около самовара, приготовленного под навесом деревьев; было так темно, что зажгли свечи. Разговор шел живо и весело, незаметно прошло часа два. Наконец я пошла укладывать моего Костю в беседку, где поставили наши постели.
На средней стене беседки прибита медная доска с надписью, что великий князь Владимир Александрович тут завтракал, 19-го июня 1868 года. По стенам и по полу так и бегали двухвостки (род сороконожек), кусающиеся пребольно.
Я совсем было сокрушилась духом. Но несмотря на горестное убеждение, что из-за этих отвратительных насекомых я всю ночь глаз не сомкну, минут через десять уснула сном праведным. На другое утро мы простились с нашими усть-каменогорскими спутниками и поехали в тарантасах.
После довольно большого и крутого спуска, дорога пошла в гору; с правой стороны, верстах в шести за горами, показался Иртыш и отлогие холмы Заиртышских гор, слева раскинулся Алтай. На всем видимом пространстве высились горные волны. Впереди на широкой долине видна Феклистовка, большая станица русских переселенцев.
Впереди ее заметны еще остатки четырехугольного земляного вала, служившего в былое время защитой от нападений киргизов. Почва чернозем, кругом хорошие пашни и богатые сенокосы. Местами целыми десятинами алеют полевые левкои; везде кусты мальвы и царских кудрей, но большею частью травы крупные и грубые.
Жар стоял невыносимый. Доехав до станции Северной, мы переоделись и снова сели на коней. Проехав верст двенадцать, взбрались на седелку, высшую точку хребта между Усть-Каменогорском и Бухтармой, и пошли ущельем Пихтовкой.
От седелки спуск, правда, очень отлогий, идет семь верст. Ущелье схоже с Проходным, только горы больше и виды диче и грандиознее. По всей дороге торчат чертовы зубья, как зовут казаки вертикально стоящие сланцы, и бегут ручьи; в одном месте, на порядочное расстояние, дорога идет по каменистому руслу ручья.
Толчки такие, что мертвого разбудят. По сторонам дороги много смородины и малины; казаки ломали целые веники их. Выехав из ущелья, мы свернули на довольно широкую долину и, проехав версты три, остановились в Александровском, тоже станице русских переселенцев.
Станица большая, постройка очень хорошая, и поразительно много красивых женщин, чего вообще нельзя сказать про женщин нашей области, где примесь киргизского типа сильно сказывается. В избе, где мы остановились, обе дочки хозяйки были красавицы.
Отсюда мы отправились в тарантасах в Бухтарму, и часам к трем были там. Усть-Бухтарминская станица и бывшая крепость - кучка убогих домиков, вроде семипалатинских, сбитых вместе; посредине, на кривой, заросшей травой площади, небольшая деревянная церковь.
Из населения мы встретили несколько ребятишек, несколько пасущихся животных и широкую фигуру командующего (выселкового атамана), стремящегося изо всех сил по улице, очевидно, от нашего тарантаса. Наконец мы подкатили к бревенчатому домику, стоящему на берегу Бухтармы.
Запыхавшийся командующий стоял уже тут. Отдохнув, мы пошли осматривать Бухтарминскую крепость, ров, мосты, валы, здания внутри валов. Крепость как следует быть, не то что наша, от которой остались только одни каменные ворота среди чиста поля.
Муж восхищался положением крепости, я же, не понимая, чем она его так восхитила, видела только, что одной стороной она подходит к высокому, скалистому и обрывистому берегу Бухтармы, с другой окружена валом и рвом; за ними долина, замыкающаяся горами Толстухой, Толстушенком и т. д.
На берегу нам показали богатырский след, ясно отпечатанный на скале след человеческой ноги, но вовсе не богатырской, а самой обыкновенной. Легенда гласит, что во время оно, когда в этих местах обитали богатыри, пришли русские и стали воевать с богатырями.
Раз как-то они погнались за одним из богатырей; тот доскакал до скалы и, видя, что далее скакать нельзя, перепрыгнул через Бухтарму, и вот след его ноги и отпечатался, когда, приготовляясь к скачку, он оперся ногой на скалу.
Должно быть, сильно оперся. Истина же устами солдатика изрекла: «Это, когда тут арестанты содержались, они баловали». И действительно, тут же около богатырского следа выбиты на скале птичьи следы, подковы и две латинские буквы.
Но, разочаровав нас в подвиге древнего богатыря, он утешил рассказом о развлечении, придуманном здесь же одним современным богатырем. Подведя нас к краю скалы, которая стоит над Бухтармой отвесною стеной сажен в 12, он указал на небольшой выступ, не более квадратного аршина, выходящий в виде балкончика на половине высоты скалы, и рассказал, как один солдатик, цепляясь кое-как, сползал на этот выступ, раздевался, складывал свое платье и бросался в Бухтарму.
- «Так и пропадет! и эво куда его вынесет!»
Потом еще показали нам сделанную в углублении скалы, над рекой, довольно большую надпись красною краской; прочитать или даже разобрать, какими она написана буквами, невозможно; чтоб издали взглянуть на надпись, приходится лепиться на краю скалы над водой, а сделать надпись иначе нельзя было, как спустив пишущего на веревке, как это делают у нас, когда красят дома.
Кончив осмотр крепости, мы отправились обратно. Жар все еще стоял невыносимый. Выкупавшись и пообедав, мы пошли на паром, распрощались с нашими хозяевами и переправились на левый берег Бухтармы. Там нам встретилась целая толпа хохлов и хохлушек, возвращавшихся с недавно разведенных ими баштанов.
Хохлы эти, в числе многих тысяч переселенцев, шли несколько лет тому назад на Амур, но выбившись из сил и растратив все скудное достояние на четырехтысячном пути, осели здесь, вполне сохранив свой характер. Где хохол, там баштан, волы и чумачество.
И здесь хохлы стали извозничать: перевозят руду из Змеиногорского рудника на пристань, берутся доставлять грузы в Верное, даже в передовые отряды. Все на родных волах. Мы купили у них арбузов и дынь, сели в тарантасы и покатили или, вернее, понеслись, так как в наш легонький экипаж запрягли пятерых отличных коней.
Весь низменный полуостров между Бухтармой и Иртышем, сливающимися верстах в двух ниже, по которому мы ехали, весной заливается водой, и несмотря на то, что местами он порос высоким тальником, в большую воду через него переправляются на лодках.
До впадения Бухтармы, Иртыш называется Тихим, хотя этот тихий несравненно быстрее нашей Невы, ниже его называют Быстрым Иртышем. Быстрина действительно замечательная; карбаз с грузом руды пробегает по течению сто тридцать верст в двенадцать часов; этою весной мы спускались на карбазе; красив, но чрезвычайно суров вид берегов Быстрого Иртыша.
Огромные, голые скалы теснят его с обеих сторон. Тут есть одно небезопасное место, называемое Семь Братьев, то есть семь скал, выдвинувшихся в Иртыш; течением так и прибивает, так и тянет на них; и надо опытного рулевого и хороших гребцов, чтобы миновать их благополучно.
Если попадешь на первого брата, говорят гребцы, побываешь и на всех семи. Сомнения нет, что после визита седьмому брату от карбаза останутся одни щепы. На заливных лугах мыса, между Бухтармой и Тихим Иртышем, переселенцы-хохлы развели в этом году громадные баштаны, обсаженные кругом подсолнечниками.
Наш ямщик не мог нахвалиться и нарадоваться на это нововведение. До прибытия хохлов, у них, на такой благодатной почве, не было ни арбузов, ни дынь. Некоторые пробовали сажать в огородах, но, от неуменья огородников, или вовсе не родилась эти овощи, или выходили очень плохие.
Этот же год продавали по рублю квадратную сажень арбузов на бакче. Пока муж с ямщиком любовались на бакчи, я заметила, что корневик наш сильно горячится. При спуске с горы, вместо того чтобы, как следует степенному и благовоспитанному коню, упираться и шагом на себе спускать экипаж, он злился, рвался, наконец понес, налетел на уносных лошадей; те бросились по косогору, в сторону.
Несколько секунд мы летели с быстротой неописанною. Наконец тарантас перевернулся, и мы и наши вещи высыпались как горох. Помню только, что я перелетела через кого-то, и очутилась на порядочной дистанции от тарантаса, на коленях, и тут же, с полета, непроизвольно совершила земной поклон.
Поднявшись, вижу, что Костя лежит около меня, и тоже поднялся благополучно. Муж упал около самого тарантаса; тарантас же стоит на боку, и только колесо неистово вертится в воздухе. Лошади, ямщик, форейтор, все это перепутанное лежит в куче.
Более всех пострадал форейтор, но, сравнительно дело обошлось благополучно; сериозного ушиба не было. Пока подъехал другой тарантас, и ямщики, с помощью нашего повара, стали приводить экипаж в порядок, мы пошли пешком.
Оказалось, что я сильно ушибла ногу, и муж, сам получивший карамболь в голову и руку, должен был вести меня под руку, как в сказке о лисице и волке:
- «Битый небитого ведет!»
Скоро догнал нас тарантас, уже без уносных; корневик так и рвался и храпел, красота лошадь!
Не успели мы сесть, он в ту же минуту снова подхватил; даже ямщик пришел в негодование:
- «Черт эдакой, а не лошадь!»
Летели мы, летели, не без некоторого замирания сердца, но дорога, на счастье, была гладкая. Уходились наши кони, и мы в целости были представлены на станцию Воронью. Сначала предполагалось ехать и ночью, но после переезда, совершенного с такою невольною и чрезмерною быстротой, порешили остановиться ночевать.
В этот день мы порядком устали, проехав 25 верст верхом, рысью, по жаре, осмотрев крепость, да сделав верст семьдесят в тарантасе, с таким пассажем, как описано выше. Как не почувствовать после всего этого стремления прилечь и заснуть!
Но на прошлом ночлеге двухвостки, а на этом тараканы, да в таком обилии, что можно было придти в отчаяние. Но так как отчаяние бесплодно, я устроила железную свою кровать посредине комнаты, и уснула в сладкой, но не знаю, насколько сбыточной надежде, что по железным ножкам кровати тараканы не доберутся до меня.
Дорога от Воронья до Красных Ярков идет все время около самого Иртыша. В первый раз в жизни мне случилось увидеть плывущую змею; сначала мы не могли разобрать, что это за желтая головка на круто высунутой шее. Косте показалось, что утенок.
Рассмотрев поближе, увидели всю змею; она очень проворно и ловко плыла, извиваясь точно так же, как когда ползет по земле. Ямщик показал замечательную гору на противоположном берегу Иртыша; сквозь всю гору проходит сквозная пещера.
Не доезжая несколько верст до Ярков, начинает подыматься по правой стороне реки Курчумский хребет. В Ярках крестьяне жаловались, что киргизы отбарантовали у них лошадей и угнали за хребет. У Ярков Иртыш, шедший сначала к северо-востоку, делает крутой поворот на северо-запад, образуя бухту, в которой собирается большое количество карбазов.
С этого пункта и начинается собственно судоходство по Иртышу. На следующих станциях, Большенарымске и Малонарымске, мы останавливались только чтобы выкупаться, пока перепрягали лошадей. Жар стоял до 35° по Реомюру.
В Малонарымске есть купцы, отправляющие хлеб в Китай. В Хобдо пуд пшеничной муки доходил этот год до 8 руб., а в Малонарымске стоил 20 коп. Из Малонарымска дорога шла хорошенькою долиной, по берегу Нарыма; с обеих сторон поднимались довольно большие горы.
Курчумский же хребет принял уже грандиозные размеры. Проехав мимо большого аула, мы, часов в восемь вечера, доехали до Таловки, это деревня только что выстроившаяся, избы маленькие, но хорошо построенные. Нас особенно приятно поразил чисто великорусский тип крестьян, хотя они и числятся инородцами.
Пока перепрягали лошадей, собралась толпа потолковать с начальством о своих делах; тут тоже жаловались на баранту.
Не знаю, что причиной: то ли что здешние крестьяне-зверовщики, народ удалой, самостоятельный и смышленый, или же, возможно, малое касательство с начальством (хотя в Семипалатинске на Новый год нас поразили хором:
- «И прославим и восхвалим администрацию!»); но дело в том, что их толковый, свободный, вежливый склад речи просто поражает.
Видно, что большею частию они люди зажиточные. До Котон-Карагая, где стоит первый отряд, нам оставалось от Таловки 40 верст; по маршруту назначено было менять лошадей через 25 верст, в деревне Медведке; но таловские крестьяне, везшие нас, уверили, что довезут отлично и без перепряжки.
Очевидно, их лошади составляли предмет немалой любви и гордости их владельцев. Действительно, кони отличные. От Таловки стали попадаться по дороге деревья, иногда целыми купами, что для нас составляло редкое зрелище.
Но, видно, мне на роду написано, что мошки и букашки будут отравлять мою жизнь. Едва глаза мои насладились зрелищем так давно невиданных рощ, какая-то бестолковая муха залетела мне в глаз. Доехали мы до Медведки, тьма такая, что зги не видно; но так как нас ждали, то в окнах виднелись огни, и мелькал народ.
Несообразная муха сидела у меня в глазу, точно камешек, и причиняла значительное страдание, так что я заявила желание остановиться для изгнания мухи. Темнота была такая что не только мухи, - бревна в глазу не было бы видно.
Викентий, наш повар, зажег свечу, и осветил для столпившейся около нас публики мой печальный образ. Но недоумение и удивление превзошло все границы, когда Викентий, с моих слов, потребовал зеркало.
- «Чего?»
- «Зеркала!»
- «Какого такого?»
- «Слышь, ты, зеркала спрашивает?»
- «Зеркала, а!»
- «Неси скорей»
- «Чего такого?!»
- «Зеркала, слышь ты!»
- «Чего толкаешься!»
Викентий сам пошел в избу на поиски зеркала.
- Да кто ж эта такая с ним-то сидит! полюбопытствовал тоненький женский голос.
- Его законная жена, тётка! - заступилась я за себя.
В прошлом году мы ни за что пострадали. Одна благородная, то есть чиновная дама, встретив нас на пикете, рассказывала потом, что встретила генерала с мамзелью, и на все доводы знавшего нас содержателя почты упорно утверждала, что не может быть, чтобы благородная образованная дама путешествовала без горничной.
Наконец Викентий принес зеркало, и с помощью его муха была извлечена. Публика выказала огромное сочувствие.
- «Ишь ты, леший, муха!»
- «В глаза лезет проклятая!»
- «Молчи! вынула!»
- «Ну, слава тебе Господи!»
Поблагодарив и распростившись, мы тронулись дальше; темно было как в трубе, так что надо было знание местности наших ямщиков, чтобы нас не вывалить; тем более что дорога прямо от деревни пошла под гору через речку, и окончательно мы поехали лесом.
- Стой! Куда ты! Сбились! - крикнул наш форейтор.
Впотьмах мы съехали с дороги, и попали между деревьями. Слезли наши возницы, и отправились искать дорогу; наконец обрели путь истинный. Не успели проехать с полверсты, ямщики пригласили нас вылезти из тарантаса и идти пешком, так как, по их соображениям, скоро будет крутой спуск и впотьмах легко ошибиться.
Вышли мы из экипажа и чуть не ощупью шли за ним. Перебрались счастливо. Отъехав версты с две, снова остановились поджидать тарантас Викентия.
- Савелий! а Савелий! - говорили между собой наши ямщики.
- А ведь тарантас-то тот, пожалуй, завалился?
- Пожалуй что и есть завалился.
- Не то сбились.
- Не слыхать.
Постояли еще, и хотели уже отправить одного из ямщиков верхом отыскивать отставших, как послышалось громыханье и треск сучьев, затем свист, и через несколько времени можно было определить, что наши наехали близко.
Ямщики перекликнулись и пустились дальше. Около полночи взошла луна и осветила местность; по обеим сторонам дороги теснились громадные деревья; местами они редели, и слева открывалась долина, справа темнели горы. А там опять столпятся великаны, и едва-едва сквозь их листву просвечивает бледный свет луны.
Давно не жилось так хорошо, как в эту ночь. Не доезжая верст десяти до Котон-Карагая, к нам подъехали киргизы, к немалому ужасу Кости, наслушавшемуся от ямщиков рассказов о барантачах.
- А! Чумикей! аман (здравствуй)! - крикнул муж, рассмотрев одного из подъехавших.
Разменявшись киргизскими любезностями, из которых главная
- «Малджан эсен ма!», то есть «Здоров ли ваш скот и домашние?», муж сказал Чумикею, что байбиче (жена) его с ним едет.
Тогда он подъехал ко мне, и приложил одну руку к груди, а другую, подавая мне ребром и растопырив в виде веера, наговорил с три короба, полагать надо, любезностей; хотя я не поняла ни слова, но с апломбом отвечала:
- Тар джелгасен, Чумикей, тар джелгасен (благодарю).
Киргизы выехали, чтобы провести нас через трясину такого непозволительного свойства, что лошади и волы уходят бесследно. Да будет известно чрез сие писание руки моей всем желающим провалиться сквозь землю, что для этого есть наиудобнейшее место в Семипалатинской области.
В настоящем нашем настроении мы были вовсе к этому не расположены, и потому когда узнали, что миновали трясину, ощутили некоторое удовольствие. Проехав большую рощу и два моста, переброшенных через бурливую горную речку, мы въехали наконец на долину Котон-Карагая.
В лагере суетились и толпились люди; в юртах светились огни и пылал большой костер. Спутники наши, выехавшие ранее, были уже налицо; первая экипажная часть пути была окончена. На другой день, когда мы вышли из юрты, Котон-Карагай представился нам во всей красоте.
Зеленая долина расстилается версты на две; с одной стороны прилегает к высоким лесистым горам, на каменистых вершинах которых местами лежит снег; с другой стороны граничит невысокий каменистый хребетик, за которым течет Бухтарма; кругом долину замыкают рощи; около речки - ряды юрт, где помещается отряд, выстроенная баня и достраивающаяся казарма.
Пока шел смотр отряда, мы пошли бродить в рощу; березы, сосняк, грибы и ягоды; родимая Тверская губерния, да и только! Порой только забудешься и взглянешь, что такое темнит так с этой стороны рощи; подымешь голову, а это горы стоят исполинскою стеной. Вот если б наш Семипалатинск стоял бы тут, а не в сыпучих песках, где он построен, я бы не жаловалась.
После завтрака начались выборы волостных правителей. Киргизья наехало множество. Поставили на лугу на табурет ящик, накрыли его и посадили избирателей около него полукругом, поотдаль от них уселись рядком выбираемые.
Киргизская публика теснилась кругом. Муж объяснил им значение выборов, и сказал некий спич. Осман переводил по-киргизски. Прочитали имена кандидатов, роздали избирателям шарики, и в глубочайшем молчании церемония началась.
Все киргизы следили с величайшим интересом за ходом выборов. Кандидаты превратились в истуканов и не спускали глаз с рокового ящика. Выбрали прежнего старшину. Тотчас подскочил к нему киргизенок лет четырнадцати, и сорвал с него хорошую меховую шапку. У киргизов обычай: первого, кто поздравит, дарить; но тут оказалось, что поздравитель сам схватил подарок.
Потом роздали знаки: медная медаль на цепи. Еще недавно подобные знаки возбуждали неудовольствие киргизов, так как какой-то досужий человек растолковал им, что, надев эти знаки, они будут окрещены в христианскую веру, потому что на медали герб Российской Империи и на короне крест.
Теперь же они принимали и надевали знаки с большим удовольствием. После выборов сделано им было угощение. Казаки пели у себя пред юртами, и мы долго гуляли, слушая их песни. Наконец разошлись по юртам приготовляться к завтрашнему путешествию.
II.
8го августа, урочище Уан, 45 верст от Котон-Карагая.
"Далее, до берега Иртыша, снова преобладает глинистый сланец, содержащий отложения кварца. Наконец, мы увидели долину, по которой течет широкий быстрый Иртыш; за ним видна горная местность, а на далеком горизонте поднимаются покрытые снегом вершины Алтая. Слева от нас тянулась широкая равнина, на которой на выходе скалистых гор лежит городок Усть-Каменогорск, до него мы очень скоро добрались."
Путешествие доктора философии Александра Шренка в 1842 году в Восточную Джунгарскую степь.
Всю ночь шел дождь, и нам пришлось выступать по сырости и в ожидании нового дождя. С раннего утра лагерь представлял самую оживленную картину; вьючили верблюдов, седлали и пробовали лошадей. Наконец раздалась команда:
- «Садись!»
Казаки сели на коней и выстроились; вытянулась вереница вьючных верблюдов, погнали живой провиант, баранов; мы тоже сели на лошадей.
- «С Богом! Песенники вперед!»
И под залихватскую казачью песню тронулись с Котон-Карагая.
С нами шло несколько киргизов; проводником же муж нанял зверовщика из деревни Белой, некоего Барсукова, не только замечательного тем, что даже между своею братьей пользуется славой необыкновенного удальца и стрелка, но в особенности интересного тем, что ходил лет десять тому назад со своими односельцами искать Беловодье, то есть землю, где мед самотечный, хлеб сам родится и т. д.
Они прошли всю Среднюю Азию, были около Тибета, и наконец уверились, что уговоривший идти мужик обманул. Барсуков вывел своих домой. Два раза он ходил проводником в Китай с консулом Павлиновым. Был при комиссии, ставившей пограничные знаки и пр.
Наружность Барсукова замечательна: необыкновенно большого росту, сухощавый, плечистый, с крупными, но правильными чертами лица, напоминающими лица кариатид Эрмитажа. Большие темно-серые, умные глаза, черная с проседью борода и загорелое до невозможности лицо.
В манере, в речах спокойная самоуверенность и подчас юмор. Кафтан опоясан ремнем с ножом и патронташем; за плечами винтовка с присошкой; огромные сапожищи и маленькая китайская шляпа, вроде картуза, надвинутая на лоб.
Сначала все более или менее гарцовали, но так как по лужам и мокрой траве это неудобно, да и начальство этого не любит, то притихли и пошли смирно. Пошел дождь, все те, у кого были непромокаемые плащи, надели их, но и плащи плохо защищали от дождя.
Шли мы, шли под дождем; казалось, ни дождю, ни дороге конца не будет. Дорога шла ровною, однообразною долиной. Наконец я подъехала к Барсукову и стала его расспрашивать, как они Беловодье ходили искать.
- Мужичок сманил, из наших, - начал Егор Титыч.
- Сам, говорит, там был на Беловодье. Мед, говорит, самотечный, хлеб сам родится, всего вволю. Ну и пошли. Сто тридцать семей. Сколько горя-то было; дети, бабы, - сколько примерло дорогой.
- А вы долго шли?
- В апреле вышли, к Рождеству Богородицы пришли.
- Куда же вы пришли?
- В Турпанию.
По рассказам можно понять, что они были в Турфане, в восточной части Кашгарии.
- Все что пошли разорились; кто богатеющий был, а тут вовсе ничего не стало, потому побросали все, - хлеба полные закромы, все. К тому же дорогой обворовали много.
- Кто же?
- Свои.
- Как свои?
- Да так, всякие люди есть.
- Что ж, хорошо в Турпании?
- Песок да камень. Народ по-китайскому одет, и все как у китайцев.
- Вас жители не обижали?.
- Нет, зачем; не обижали. Я у короля у ихнего, у турпанского был, рядом с ним сидел на стуле.
- Зачем же ты к нему ходил?
- Говорить от всех наших; чрез переводчика говорил. Сидит он ровно на кресле, все костью обделано; одет сам по-китайскому, а позади его стоит человек и этаким опахалом машет.
- Что же он тебе сказал?
- «Жаль мне, - говорит, - вас… Я вам земли дам, вы оставайтесь у меня». А покуда велел насылать мешки урюку, изюму, рису. Как я принес к нашим, - а они уж сколько сидели с детьми не евши, - даже все заплакали. Остаться не захотели; меня выбрали домой вести; а у меня брат тут помер, сноха, двое детей; ну, ничего, и повел их домой!
Мужичка того, что обманул, застрелить хотели; нас только восемь человек против всех его и отстояли. Он один с семьей там остался.
Разговор наш стали прерывать беспрестанные возгласы:
- «Барсуков! Скоро Чингистай?» Чингистай - место бывшего китайского пикета; оно было назначено для привала.
Признаюсь, я с отвращением подумывала об этом привале, на мокрой траве и под дождем, и очень раскаялась, что взяла сына. Но скоро, ко всеобщему удовольствию, дождь прекратился и выглянуло солнце. Встретилась первая проба новичкам: каменистый и довольно крутой спуск, но всего каких-нибудь сажен пятнадцать.
Костю вели на чумбуре; он краснел как рак, и вцепился в луку седла. Пройдя еще с версту, мы подошли к Бухтарминскому водопаду. Река шириной сажен в 30, страшно быстрая, падает сильным склоном на протяжении полверсты по громадным камням.
Вся река клубится, прыгает и бешено ревет; над ней как пар стоят брызги. Красота дивная. Мы долго стояли и любовались.
Барсуков нам рассказал:
- Как этта был горный чиновник, и говорит: «Жив быть не хочу, если не проеду тут на лодке».
Мы ему говорим: «Совсем невозможно - надо на лямках спускать около самого берега».
- «Врете!» - говорит. Ладил, ладил себе лодку; сладил большущую такую. Сел - да только мы его и видели.
И тут Барсуков так смеялся, что и мы смеялись, глядя на него.
- Только щепы завертело, а его и духу не стало.
Потом Барсуков нам показал одно место на правом берегу Бухтармы, где разрывали курганы и находили скелеты в сидячем положении и на них разные куриозные украшения. Очень нам хотелось разрыть хоть один курган, но не было с собой никаких инструментов.
Наконец пришли и на Чингистай. Солнце успело уже несколько обсушить нас и землю; разостлали ковер на берегу Бухтармы и занялись чаепитием. Чингистай - красивое, привольное место; от гор и до Бухтармы широкая долина идет склоном в два уступа, или, как зверовщики говорят, прилавка; вся она покрыта травой и цветами.
Только пошли мы с привала, снова начал лить дождь. В семь часов вечера мы пришли на Уан и стали на ночлег. Уан - мастечко, должно быть, очень хорошенькое; тут и быстрая речка, и красивые купы дерев, большая, густая трава; но в настоящую минуту идешь по этой траве и чувствуешь, что ноги до колен мокры, с дерев капает, в юртах сыро и холодно, от мокрых войлоков отвратительно пахнет; даже и лунный свет, всегда придающий всему красоту и поэзию, придает еще более плачевный, холодный вид этой промокшей картине.
Развели большой костер; позвали к нему греться и пить чай, в ожидании обеда. Но как мы ни грелись у костра, толку было мало, потому что с одной стороны припекало, а с другой прохватывало холодным ветром. Наконец ушли в юрты, и после обеда, то есть супа из баранины, разошлись спать. От холода и сырости, с непривычки, плохо спится.
III.
9го августа, близь стойбища Микайле, 40 верст от Уана.
Сегодня был день таких приключений, что до сих пор у меня нервная лихорадка. Вышли мы с Уана очень хорошо. Дождь изредка перепадал; было темно, дорога чрезвычайно живописна. Идти - наслажденье! Прошли мы около красивого озера, на котором было множество уток; но охотиться было неудобно, берега топки, а собаки с нами не было.
Поскакал было Ж. стрелять орла, но орел улетел. В полуверсте от дороги, с левой стороны шли гранитные скалы самых причудливых и разнообразных форм, местами совсем голые, местами поросшие деревьями и мхом. М. отправился исследовать строение скал; мы отправились за ним.
В том месте, к которому мы подъехали, была расселина, такая, что одному человеку с трудом можно пройти. Мы соскочили с лошадей и стали подыматься по ней. Вылезши из расселины, мы очутились точно в волшебном мирке: прелестнейшая рощица, окруженная зубчатыми скалами; посредине песчаная, чистенькая площадка; около нее, под деревьями, обломки скал образовали род скамей.
Точно кто-нибудь тут нарочно садил, чистил и устраивал. Спустившись с этой скалы, мы стали взбираться на другую, замечательную тем, что на вершине ее большое, совершенно круглое отверстие, точно окно; мы пролезли туда и очутились точно в крепости; опять большая площадка, окруженная каменными стенами, с одной только стороны можно влезть на нее, и то между большими камнями, по крутому и узкому подъему.
Барантачам (Общее в степи название всяких воров, преимущественно скота)] или от барантачей - отсиживаться отлично. Выбравшись оттуда, мы сели на лошадей и нагнали отряд. Скоро скалы пошли с обеих сторон дороги. В некоторых местах из них образовались такие пещеры, что можно бы спрятаться с лошадью.
С одной высокой скалы падал водопад. Некоторые из наших ездили по скалам и собирали малину и крыжовник. Видели тут двух барантачей. Песни в отряде не умолкали. Таким образом, в прелестнейшей местности, при хорошей погоде и отличнейшем расположении духа, мы пришли и стали на полдневку, опять на берегу Бухтармы, у брода.
Река течет тут широким руслом, но все-таки чрезвычайно быстро. Пока разводили огонь около рощицы на берегу, видим, едет Барсуков уже с противоположного берега. Я ни разу не видала переправы вброд через горную реку, и потому меня поразило, что лошадь Барсукова гнет в дугу, и вода так и хлещет ей в бок.
Вдруг она ткнулась, так что ушла с головой, опять выправилась, Барсуков засучил рукава и спустился пониже. Тут стал переходить еще киргиз; когда они подходили к нашему берегу, лошадей их силой воды гнуло кольцом, а у самого берега вода била им через спины.
Выйдя на берег, Барсуков сказал, что этот брод в настоящее время опасен, и лучше его не проходить, чтобы не загубить чьей-нибудь души. Я стала было, любопытства ради, подговаривать Барсукова вести нас тут. Но он сериозно взглянул на меня.
- А видели вы, как я перекрестился, как пошел в воду?
- Видела.
- Ну и говорить больше нечего.
Напившись чаю, мы разделились на две партии; нас Барсуков отправил через каменное болото (Болото, образующееся между камнями горных осыпей.) в гору, сам с Ж. пошел посмотреть, нельзя ли пройти берегом до другого брода.
Пошли они такою кручей, что у Ж. лошадь оборвалась и полетела ногами вверх; разумеется, он улетел вперед ее и обрушился на киргиза, который стоял внизу и рвал смородину. Лошадь Ж. завалилась на спину между осью и большим камнем.
Вытащили лошадь, Ж. сел на нее, и пошли они пробовать пройти самым берегом; сначала шли хорошо, но тут встретилась большая плита, сходящая совсем наискось в воду.
Барсуков прошел вперед, - лошадь его ступила в ямку, наполненную дождевой водой, и наплескала на плиту; не успел Ж. встать на нее, Барсуков кричит:
- «Держитесь! лошадь катится!»
Как уж тот уцепился за скалу, один Бог знает, но в ту же секунду лошадь, поскользнувшись, скатилась в реку. Раза два ее перевернуло и отнесло теченьем на несколько сажен.
Однако она справилась и выбилась на берег. Тогда Барсуков, не унывая, по здешнему выражению, заревел Ж.:
- «Александра Павлыч! Возьмите лошадь в повод и ведите сюда!»
Тот взял лошадь и провел по той же самой плите. Решивши, что берегом идти нельзя, Барсуков полез к нам в гору, опять чуть не по стене. Или у Ж. лошадь была дрянная, или падение ее напугало и утомило, но она снова оборвалась.
Ж. только успел с нее свернуться, чтоб она его не придавила, и покатились оба кто куда. У нас киргиз увяз с лошадью в болоте, но их благополучно вытащили. Пройдя недолго прямою и хорошею дорогой, мы поползли по крутому и каменистому подъему, по склону громаднейшей горы, покрытой густым лесом.
Лезли мы, лезли, по узкой тропинке между камнями и деревьями, держась за гривы, чтобы, несмотря на нагрудник, не сползти с седлом на хвост. Спускаться оказалось еще хуже; после дождя камни скользкие; между камнями жидкая грязь, и спуск такой же крутой, как и подъем.
Костю все время урядник вел на чумбуре; но он уже не краснел и не трусил, как на первом спуске. Сойдя с этого спуска, мы снова пошли хорошей дорогой лесом. В тени громадных дерев тенисто и прохладно; кругом всевозможные ягоды, к нам то и дело подъезжают киргизы или казаки, и подают пучки ягод.
Барсуков уехал вперед искать брод. Пройдя довольно долго, мы остановились на полянке в лесу подождать Барсукова. Ждали, пождали, Барсукова все нет; снова сели на лошадей и стали спускаться частым лесом к реке. Два казака поехали вперед; наконец они вернулись с известием, что Барсуков ревет - значит, к броду.
Пробравшись между деревьями, пнями, валежником и кустами к берегу, видим: действительно, Егор Титыч тут.
- Ну, - говорит, - брод не очень хорош, но перейти можно.
Река в этом месте сажен 40 ширины, посредине отмель, с правой стороны глубина и быстрина, оканчивающаяся за островком, покрытым кустами, той же отмелью; по этой отмели можно добраться до другого берега; с левой - труба, то есть глубокое русло, и вода туда несется с страшной быстриной.
Муж приказал выстроиться всем по три в ряд, идти плотною колонной, забирая сначала вправо, чтобы не унесло в трубу, и потом спускаться на отмель, на которой, в виде маяка, стоял Барсуков. Впереди колонны пошли муж, я и казак; за нами Костя на чумбуре у урядника; с другой стороны его Осман и Ж. и так далее.
Сначала шли хорошо, плотно держась друг около друга, но через несколько минут, смотрю, лошадь моя отделилась от лошадей казака и мужа. Он кричит мне что-то; за ревом воды ничего не слышно. Вижу, справа вода несется и бьет каскадом, слева тоже; чувствую, как лошадь шатается подо мной, гнет ее кольцом, вода хлещет в бок, так, что хватает мне до колен, и, главное, душа дрожит за Костю.
Окончательно я перестала понимать, идет или стоит моя лошадь; вижу только, что около меня ревет и клубится вода. Голова стала кружиться, и я почувствовала какую-то совершенную беспомощность.
В это время казак схватил и дернул мою лошадь за повод, и муж крикнул так, что я расслышала:
- «Правее! на Барсукова!»
Я как будто опомнилась, поняла в чем дело и куда держать. Выбрались на отмель, то есть на средину брода; отлегло от сердца. Костя тут. В ту же минуту с неимоверною быстротой пронесло мимо нас, по трубе, Викентия.
- «Викентий отбился! Викентий тонет!» - крикнули около нас.
Барсуков бросился по отмели, чтоб его перехватить, сунулся, схватил его, но у него в руке остался один только клок волос; того несло дальше, кувыркая вместе с лошадью; раза четыре их перевернуло. Когда Викентия пронесло мимо Барсукова, все точно замерли; невольно только двинули лошадей вперед по отмели вслед за тонущим.
В эту минуту Викентия принесло к тому месту, где река делает крутую луку; тут низко над водой рос большой куст тальника. Это его спасло, он схватился за сучья тальника; вероятно, тут была заводь, потому что и лошадь справилась и стала выбиваться на берег.
Смотрим, она передними ногами уже на земле, и выкарабкивается совсем. Викентий, держась за хвост, за ней. Слава Богу! На берегу! Барсуков повел нас дальше, но остальная часть брода уже неглубокая. Лишь только мы стали на землю, верблюда с кухней и нашими вещами потащило по трубе.
Барсуков снова бросился за ним, успел перехватить за длинный аркан и вытащить на отмель. За верблюдом, смотрим, тащит казака; но у него лошадь была отличная, сам он был опытный, и несло его близко от мели, так что довольно скоро выбился на отмель.
Не успели вздохнуть свободно, еще казак тонет; этого уже сбило, и принялось кувыркать, но, на счастье, его тоже несло около самой отмели, и Барсуков скоро его перехватил. Наконец все собрались на берегу, считают - одного казака нет, и Викентий остался на том берегу.
Выбрали лучших лошадей, и Барсуков с урядником отправились за ними. Мы тем временем распорядились разложить костер, так как солнце уже село и стало очень свежо. Достали спирт и сухое платье. Барсуков, как только перевез Викентия, вдруг опустился, побледнел и, легши на краю берега, стал смачивать себе голову и грудь водой.
Ему от утомления, а может быть, отчасти и от волнения, стало совсем дурно. Когда тонувшие переоделись и их напоили спиртом, мы тронулись дальше. Алтайские горы открылись во всей своей красе: кругом нас, как застывшие исполинские валы Океана, подымались на необозримое пространство горы, местами в ущельях, поросшие лесом, местами каменистые, но большею частью покрытые, как ковром, густою травой и цветами.
Чем выше поднимались мы в горы, тем становилось холоднее.
Проехав на полных рысях верст десять, мы приехали к аулу Микайле, и остановились верстах в трех от него, в долине между лесистыми горами; это урочище тоже называется Котон-Карагай.
IV
10го августа, Рахмановские ключи.
Утром, когда мы сошлись к чаю, оказалось что сравнительно все обошлось благополучно; больных после вчерашнего купанья не было. У Викентия только сильно разбита нога, вероятно, в то время, когда его кувыркало, или, по выражению Барсукова, куряло в реке.
Снова около костров досушивали чай и вещи. У мужа не оказалось ни одной сухой пары сапог. Одну он вымочил, переходя брод, другие все тонули. Наехало много киргизов; все они уселись на землю рядком; сам Микайле, восьмидесятидвухлетний старец, очень напоминал дряхлую собаку, может быть, тем, что у него глаза красные и слезятся.
Он несколько раз присылал просить водки; ему раза два дали, раз даже налили в бутылку, но потом стали отказывать. Долго продолжались наши сборы. Киргизы аула Микайле сами только что приняли русское подданство. То приводили они лошадей никуда не годных, а если и приведут хороших, не успеешь оглянуться, а они их снова угнали.
Наконец все устроилось; мы тронулись в путь, и, перейдя ручей, стали подниматься на зеленую гору. Казалась она не очень высокой, но когда стали подниматься, гора оказалась препочтенная. Несколько раз останавливались на площадках, чтобы дать вздохнуть лошадям.
Когда добрались до вершины и взглянули на долину Котон-Карагай, где оставили десять казаков, лишние юрты и тяжести, они показались нам муравьями. По горе или, вернее, долине, открывшейся на горе и покрытой великолепною травой, стояли небольшими рощами, как здесь называют, колками, кедры.
Во все стороны разваливались горы, виднелись Бухтарминская и Берельская долины, с своими белыми снеговыми реками; за ними подымались белки, то есть снеговые горы. До того громадны, великолепны были размеры этой чудной панорамы, что теперь становилось даже странно вспомнить Ульбинские горы и Титовку; точно карточный домик приставить к Исакиевскому собору.
В ближайших долинах виднелись аулы. Невольно приходило в голову, глядя на эту ширь, роскошь и красоту, что завидная жизнь кочующих здесь киргизов. Правда, только не зимой, в юрте! Солнце начинало сильно припекать и становилось жарко.
Мы сошли с лошадей у ручья, кругом его было кочковатое болото. Разумеется, сначала все принялись пить, потом стали размещаться на кочках; я как-то оборвалась и попала всей ботинкой в воду. Добрые души вытерли ее, и я стала просушивать на солнышке.
Вдруг все наши лошади, стоявшие в кучке, шарахнулись.
- «Что там?» - спросил муж.
На это казак, вытянувшись во фронт, доложил такое неожиданное происшествие, что я рада была, что сидела под зонтиком; а мадам К. так залилась смехом, что рухнула между двух кочек, придравшись к чему, все разразились хохотом.
Скоро подошли наши верблюды и вьючные лошади. Мы двинулись дальше, все продолжая подыматься; довольно долго шли по широкому карнизу, по боку горы; хотя мы ехали шагом, однако утомителен показался этот нескончаемый подъем, а Барсуков нам рассказывал, что у киргизов по этому подъему бывает «байга» (то есть скачка).
Окончательно пошли по каменистым горам. Чрезвычайно разнообразны и красивы их сланцевые вершины и осыпи; и вдруг, неизвестно откуда, между ними точно целые реки валунов. Искали следов прежде бывших ледников, но как-то никакие предположения не подходили.
Раза два нам пришлось идти по валунам. Ужасно надоедает. Лошадь ступает шаг за шагом, и надо постоянно держать повод настороже, чтобы поддержать лошадь, если она споткнется, и быть наготове сбросить стремена и свернуться с седла, в случае если она упадет.
Изредка попадали в долинках небольшие озера. Растительность тут самая бедная, большею частью голые камни, иногда покрытые ползучей березой, да в долинах около озер болотная зелень. Поднявшись на перевал, мы стали спускаться по каменистой осыпи; спуск был такой, что я велела Косте сойти с лошади и идти пешком.
На дне этой долины было тоже озерко, и бил со скалы небольшой водопад. Потом опять полезли на гору, громадную и крутую, и наконец взобравшись на вершину, увидели в первый раз Белуху. На ней лежали тучи; нам видны были только два почти одинаковые ее шпиля, наподобие двух исполинских сахарных голов.
Вытащили бинокли, трубу и стали смотреть. Киргизы и казаки тоже с любопытством прикладывали глаз к трубе, но не из любопытства, что там такая за Белуха, а что это за машина, в которую все смотрят. Егор Титыч Барсуков, хотя и сам смотрел на свою родимую Белуху, но долго баловаться нам не дал, говоря, что хотя будет еще один только спуск до Рахмановских ключей, да зато «жалостный».
А уж если Егор Титыч заявил, что будет жалостно, то действительно будет, как называл один из спутников, какой-нибудь чертолом. Наконец добрались мы до хорошенькой зеленой долины. Барсуков устремился с Ж. за соболем.
Нас же повели старшина Уркунча и его брат. Подошли мы к небольшой горке, завернули за нее; смотрим, обрыв тысячи в три футов! На дне этой котловины или, пожалуй вернее, пропасти, поросшей густым лесом, большое озеро, верст шесть длиной.
И вот начали мы спускаться по самому краю этого обрыва по карнизу; так как к нему подходят вершины дерев и кусты, то не страшно; одно что местами очень круто; камни после дождя скользкие и навалены грудами, точно действительно кто-нибудь желал, чтобы тут черт ногу сломал. Какая прелесть горная лошадь!
Она идет так осторожно и ловко, что просто любуешься. В ином месте приостановится, осмотрится, осторожно попробует ногой куда ступить, и потихоньку перебирается. Действительно, самое надежное в опасных местах полагаться на нее.
Спуск, как и обещал Барсуков, оказался «жалостным»; лошади по мокрым плитам и скользкой грязи то и дело съезжали на задних ногах как на салазках, а так как катанье это происходило по карнизу, на высоте примерно нескольких Исакиевских соборов, поставленных один на другой, то ощущение выходило довольно сильное.
Наконец муж сошел с лошади, пригласив меня и Костю тоже сойти. М. и даже несколько казаков спешились и повели лошадей в поводу. Прошли мы карниз и стали спускаться лесом; тут оказалось еще жалостнее. Корни дерев, ямы, плиты, грязь и, главное, круча страшная. Устала я очень карабкаться и скакать с камня на камень, так как у меня не было, как у мужчин, высоких толстых сапог, и втихомолку села на лошадь, видя, что Осман, тоже человек семейный, спускался на лошади.
Слышала я, как муж кричал, чтоб я сошла, но притворилась, что не слышу. Лошадь у меня была отличная, и спускала удивительно. Плохо только пришлось, когда мы с Османом, потеряв из виду проводника, забрались в такую трущобу, что ни ходу ни выходу. Куда ни взглянешь вниз, как отрезано.
Слышу, муж кричит откуда- то снизу, М. сбоку, и главное - Костя вопит:
- «Мама! Мама! сойди с лошади! Да снимите ее!»
И без того мы с Османом были не в малом недоумении, а наши своими криками окончательно сбивали с толку. Наконец и я им крикнула, чтобы не вопили и не мешали. Пооглядевшись, мы осторожно повернули лошадей и кое-как выбрались.
Весь этот спуск, очень крутой, идет пять верст, другие говорят - восемь. Зато как только спустились на долину, перейдя какой-то ручей, просто пришли в умиление: во-первых, отличная лужайка; на ней несколько больших кедров; это было очень важно для нас, так как люди могли укрыться от дождя; во-вторых, великолепное озеро, и кругом горы, одетые с половины густым хвойным лесом как шубой.
Пока пришли вьюки, мы пошли к ключам; от них так и потянуло запахом гнилых яиц, то есть серой; было довольно холодно, и над ключами стоял пар. Спустили термометр, оказалось, в воде 29° по Реомюру. Песок на дне и вода внизу оказались гораздо горячее, чем на поверхности.
Ключ назван Рахмановским, по имени бежавшего сюда, в конце прошлого столетия, старообрядца, здесь и проживавшего свой век. Обделан ключ деревянным срубом; подле ключа сухое дерево, покрытое навязанными на него тряпочками; это уже жертвоприношения киргизов и калмыков.
Егор Титыч относился с уважением и любовию к этим ключам. Подойдя к срубу, перекрестился, напился воды и умыл себе глаза и лицо.
- Как же, - говорит он, сидя на камне, около сруба, - мамонька моя была больна и говорит:
- «Сынок милый, привези мне этой водицы». Помогло.
- Да ведь от вашей деревни далеко сюда?
- Но. (Но значило у Барсукова да.)
- И ты сюда ездил за водой? Егор Титыч засмеялся.
- Вам тут дико да дивно кажет, а мне ровно у себя дома. У нас, вон тут, в лесу и избушка есть. Каждый год сюда промышлять приходим.
- Надолго?
- Да месяца на два, на три. Больше в одиночку ходим, а бывает, по два и больше.
- Есть тут около и другие избушки?
- На Калмачихе есть, верстах в двадцати. В праздник друг к дружке в гости ходим.
- Как же вы зимой тут ходите, на лыжах?
- Но.
- В лесу между деревьями разве можно на лыжах?
- Да кто ловок ходить на лыжах, так тот вëртче чем на коне. Как пустишься с горы, страсть! Так летом и летишь, присядешь маленько, да длинной палкой направляешь.
- А с этой горы можно сбежать на лыжах? - спросили мы его, показывая крутую, с вершины почти отвесную гору сажен в 400 вышины.
- Почто не можно, можно.
- А случалось тебе падать?
- Как не случалось, случалось.
- Что же тогда?
- Что? Сядешь, починишь лыжи, приладишь, да и побежишь сызнова. Ну и всяко бывает, когда как; иногда изломает всего, и лыжи изломает. Летось я с двумя товарищами промышлял на белках около Белухи; снег-то подтаял, пополз вниз, они так и сгинули. Посмотрел я, посмотрел, да за ними. Надо их отыскать. Сорвался, изломало меня всего.
- Ну что ж?
- Ничего. А товарищей-то и следа не нашел. Уж летом нашли. Лежат ровно живые, совсем свежие. Положили так вот через седло и повезли домой.
- Семейные были? Молодые?
- Молодые. Один женатый, другой так, одинокий. А то, этта я то же зимой был на Калмачихе один. Чувствую, разломило меня всего; лом во всем. Болен. Знать, горячка! Натаскал воды в избушку, дров припас около печки. Вижу, скоро не встать.
- Ну что же?
- Ничего. Суток трое лежал и избушку не топил. Всего недели с две пролежал; ничего не ел, только воду испивал.
- А потом?
- Киргиз заехал. Домой отвез.
Тут пришли верблюды; их развьючили и стали расставлять наши юрты. Около ключа сделали ширму из моего пледа и я отправилась купаться; вода такая приятная; кажется бы целый час не вылезла. К обеду собрались, как и всегда, к нам в юрту; в холодные дни я этому особенно рада, так как публика нагревает юрту.
Всю ночь шел дождь. Утром решили простоять этот день на месте. Барсуков предложил поехать посмотреть его избушку. Муж, я и Осман сели на лошадей и отправились с ним. Избушка стояла саженях в десяти от ключей, у подножия гор, в кедровом лесу.
Срублена она из толстых бревен, с плоской крышей; крошечные сени и в них сусека для муки; из сеней дверь в избу. Изба вся аршин шесть в квадрате. Половина избы занята палатями; тут же на них устроена печь из груды камней.
Крошечное окно, и повыше, в другой стене, заткнутая дыра для дыму. Барсуков с видимой любовью показывал нам, как он называл, свой дворец; просил посидеть, говорил, как зимой тут тепло.
- Вот, этта, поставишь ловушек на разных местах, где соболя ходят. Пойдешь, посмотришь, где были прежде заставлены. Ходишь-ходишь, и Бог знает где, и придешь в избу. Когда и несколько нас соберется.
А то:
- «Ребята, пойдем в ключи париться».
Пойдешь! Мороз страсть какой, из ключа пар так и валит. Разденемся, да бегом туда. Шапки на головы наденешь, сидишь-сидишь. А то раз, этта застал меня зимой буран в горах; одно спасенье; зарылся в снег. Как очень жарко станет, проверчу дыру. Так три дня просидел.
- Ну что же?
- Ничего. Буран стих, вылез, до аула кой-как добрался, обмерз весь. Киргизы домой свезли.
- Что ж с тобою было?
- Доктор был у нас в деревне из Зырянского рудника. Везите его, говорит, в больницу: надо, говорит, пальцы резать на ноге. Я не поехал.
- «Ну, - говорит, - как знаешь, а у меня с собой штрументу нет, а ране как через две недели не могу быть сюда». Сказал мамоньке, какой пластырь сварить. Уехал. Смотрю, у меня пальцы-то на ноге почернели. Плохо. Достал я бритву, спросил вина, напился да и отхватил. Так на этой ноге перстов и нет. Мы так и вскрикнули.
- Как же это ты решился?
- А то как, не отними - смерть.
- Что же с тобой после было?
- Ничего. Мамонька пластырь варила, прикладывала. Она умный человек была. Залечила.
- Долго ты был болен?
- Месяца три провалялся; весь обморожен был.
Возвращаясь из избушки, мы заметили, что облака начинают отдираться от гор; признак, что погода разгуляется. Стали поговаривать, не пойти ли нам вперед. Барсуков говорил, что хотя позади дождя и много, но может случиться и разнесет.
Решили идти. Барсуков сказал, что верблюдов брать с собою дальше нельзя, взяли одну только юрту и палатку, навьюченные на лошадях.
V
Белая Берель, 11го августа.
Собрались и пошли; почти тотчас нам пришлось подыматься зигзагами по высокой зеленой горе. Вышина и крутизна страшная. Добрались по-видимому до вершины, а там выше - такая же торчит гора. Дали лошадям вздохнуть и снова полезли зигзагами вверх.
Наконец поднялися до седелки и пошли прямо. Начался сильный дождь. Мы пустились рысью до кедрового колка и спрятались под деревьями. Ж. тотчас прилег на землю, нагреб сухих кедровых игл и развел огонь. Дождь прошел.
- «Садись!»
И снова пошли вперед. Шли мы уже белками; на многих местах лежал снег. Холодно было очень. Торопились засветло придти на Белую Берель, и шли все время, кроме подъемов и спусков, рысью. На беду, лошадь у меня попалась вертлявая и тряская; стремена мне отпустили длиннейшие, того и гляжу, что вылечу из седла.
Поправили, да сделали еще хуже: одно стремя на четверть короче другого. По-дамски сесть нельзя; трава мокрая, лошадь скользит. На беду, пошел опять сильный дождь; мы поскакали, чтобы скорее добраться до лесу. На косогоре лошадь моя толкнулась в сторону, я потеряла стремя, но как-то, за шею и гриву, удержалась.
Как ни скакали, а пока добрались до лесу, нас вымочило порядком; но под кедрами все равно что под крышей. Тут же было сделано зверовщиками или киргизами несколько шалашей из ветвей. Переждав дождь, снова пошли вперед; попали под град, который щелкал очень чувствительно, и окончательно спустились отвратительнейшим, крутым, каменистым и скользким спуском к Черной Берели.
Моя негодная лошаденка на спуске чуть было снова не ссадила меня с седла. Заупрямилась в одном месте, где надо было спрыгнуть с довольно большого камня вниз, и повернула на крутизне в сторону, вверх. Нагайка у меня куда-то запуталась, и я ничего не могу с нею сделать.
Наконец Осман выручил из беды и стащил лошадь за повод. Костя и М. спустились пешком. Мы перешли Черную Берель вброд; вода прозрачная, а не ледниковая, как в Бухтарме и Белой Берели. Брод очень быстрый, но не так глубок, как на Бухтарме.
На Берели прехорошенький водопад, красиво обрамленный темными кедрами; вообще, место прелестное. Остановились мы в зеленой долине под кедрами. На одном кедре-великане, между корнями которого мы уселись, наделаны были зверовщиками вешалки для ружей и т. д.
Барсуков рассказывал нам, что они часто тут ночуют. Отдохнув и налившись чаю, пустились дальше. Взобрались на такой же громадный перевал, как и до Черной Берели, и спустились таким же отвратительнейшим спуском. Белую Берель перешли в двух местах: сначала довольно мелкий рукав, и потом главное русло.
По сравнению этот брод показался довольно хорош, хотя тоже вода ледниковая, белая, и дно очень каменисто. Берельская долина казалась в сумерках очень мрачной и дикой; особенно поражает мертвая тишина кругом. Начиная с подъема от Микайле, я не помню, чтобы нам встречались птицы.
По крутому берегу Берели стояли отдельными колками кедры. Велено было стать на ночлег в одном из них. По бокам долины громадные горы. Добравшись до ровного места, нас несколько человек, с Барсуковым во главе, пустились карьером.
Доскакав до удобного места, мы сошли с лошадей, Ж. тотчас занялся своим любимым делом, разжиганьем костра, а мы с Костей пошли бродить и рвать цветы, которые я собирала и сушила. Барсуков толковал мне свойства многих трав и цветов.
По горам краснеет бездна бадана; его пьют вместо чая, только собирают не свежий, а прошлогодний. Барсуков уверял, что вкусом от настоящего чаю не отличишь. Вечером, когда собрались в юрту около чая, Барсуков засел тоже к нам, и рассказывал, какое тут множество медведей.
- Если его не тронешь, - говорил он, медленно прихлебывая чай вприкуску, - он не пошевелит; а на выстрел, так прямо и махнет. И мудер же он; иди к нему так, чтобы никак не услыхал человечьего духа, не то уйдет.
- А много ты их бил?
- Да кто его знает; десятка за три, либо за четыре.
- Ломал тебя медведь?
- Нет, не ломал. Одново руку сгрыз. Был я на Белухе около ледника, вижу, пять их ползает по льду; я стрелил; одного убил, трое убегли; еще одного ранил; как он махнет на меня, я за большую колоду тороплюсь, винтовку зарядить, а он лезет.
Я ему зареву:
- «Ты куда! ты зачем!» Он ошалеет от крику-то, остановится. А там опять ползет. Я опять зареву на него, он опять остановится. Наконец уж этта наровит меня згресть, я ему из-за колоды в лапы винтовку сую, а сам другой рукой ищу, ищу ножа, а у самого так все и дрожит, молюсь:
- «Мать Пресвятая Богородица!» Он винтовку-то как выбьет у меня из руки, да и потащил меня ровно соломенку; я ухватился другой рукой за колоду, рванулся, да и кинулся под яр.
- Ну что же?
- Ничего. Два ребра переломил. Полежал, полежал. Встал, вылез из яра, винтовку нашел, и тот медведь, что на меня лез, издох; шкуры ободрал. А то еще весной было, вижу, медведь большущий и медведица целуются; он этта, зайдет, в рыло-то ее лижет.
Я с подветру зашел. Стрелил. Как он медведицу-то шархнет в сторону, а сам так кубарем и скатился под гору. Та посмотрела, чего, мол, думает, милый мой так меня шарахнул? Пошла под гору, видит кровь, фыркнула, да на меня. Я ее в упор.
А то, вот-то смеху было, - продолжал Егор Титыч, смеясь и качая головой, - это уж мы пришли с промыслов, и испиваем. Пили, пили.
Бежит тут один:
«Тятенька! - кричит.
- Медведь на пасеке в капкан попал».
Мы все были без оружия (у зверовщиков правило: когда приходят друг к другу в гости, не брать с собою ни ножа, ни какого оружия; точно так же, когда идут на промысел, не берут с собой водки). Бегом! Кто еще за пазуху сует бутылку или полуштоф.
Прибежали. Медведь идет, лапа-то у него в капкане, а за капканом тащится на цепи большущий чурбан. Вот шел он, шел, остановился, взял чурбан в лапы, понес. Должно быть, надоело, вырыл яму, закопал туда чурбан, затоптал, затаскал всякой всячиной, ну, думает, ладно.
Пошел, а чурбан-то снова за ним! Остановился, сызнова потащил, принес на край яра - как шаркнет его под яр! да и сам с ним улетел! От-то мы хохотали! Кто-то спросил Барсукова, большие ли здесь медведи.
- Большущие. В вышину-то не очень высок, с двухгодовую скотину, гораздо длинный эвокой! как станет на дыбы, так вот до верху юрты будет. Это выходило аршина четыре.
- Множество их здесь, - продолжал Барсуков.
- Вот тоже было с одним, с нашим: идет он около самой Берели; наткнулся на черного зверя; тот бросился наутек, он за ним; медведь со страхов в реку (а он на воде ничего не стоющий). Плывет, только одна мордочка торчит, ни поворотиться в воде, ничего; как есть ничего не стоющий!
Товарищ за ним в воду, он удалой был и плавать, и на все, нагнал черного зверя, сел на него, схватил за голову, да и зачал курять (совать головой в воду), так до смерти и закурял. Долго еще мы сидели и толковали, но когда все разошлись, и у нас в юрте заснули, мне вдруг ясно представилось, в какой мы глуши, и что если в нашу юрту заберется медведь.
Так и представлялось, как он подымется в вышину всей юрты, и насколько днем я желала посмотреть медведя на воле, настолько теперь казалось страшно.
VI.
Белая Берель 11го августа. На ледник и обратно на ночевку.
Погода стояла отличная, и мы часов в семь отправились к Берельскому леднику. Дорога по высокому берегу Берели отличная, и мы шли на полных рысях. При солнечном свете долина казалась прелестной. Во всех местах, где растут дубы, то есть дикий укроп, кругом и около истоптано медведями; во многих местах видно было, где они лежали.
Барсуков заметил, что их тут такое множество, ровно скот пригнали; но мы, к сожалению, ни одного не видали. Скоро мы стали понемногу подыматься, все берегом же Берели, выше и выше; и окончательно вошли на карниз, какого еще не встречали.
Посмотрела я, да и велела Косте остаться на лошади; все же у горной лошади привычнее и вернее нога. Карниз этот был в четверть аршина шириной, прямо от него осыпь футов в триста; у подножия ревет Берель, более и более свирепевшая по мере приближения к леднику.
С другой стороны карниза крутая, почти отвесная гора; так что, войдя на этот карниз, ни повернуть назад, ни соскочить с лошади, в случае, если б она оступилась, немыслимо; разве через круп, но едва ли для нас, новичков, такой эксперимент возможен, потому что все-таки надо соскочить на площадь в четверть аршина ширины.
Карниз этот подымался и спускался, делал небольшие извороты, и в одном месте шел совсем наискось вниз, да тут же лежала плита торчком, через которую лошадям надо было переступать. Костя шел очень хорошо, совершенно покойно, у него, как и у меня, голова не кружилась на высоте.
Не дай Бог, закружись голова, испугайся, дерни лошадь, или просто сделай сам неловкое движение, лошадь сделает неверный шаг, оборвется, и тогда гибель неизбежная. Барсуков говорил, что после дождя идти по этому карнизу крайне опасно и надо идти пешком, потому что лошадь скользит.
У него сорвалась раз лошадь в этих местах. С этого карниза мы пошли все вверх косогором, без тропинки, по совершенно зеленой горе. Тут вышина скоро сделалась страшною над Берелью, но опасности сравнительно было гораздо меньше; тут не было отвесной кручи, и можно было, в случае несчастия, свернуться с лошади и удержаться на горе, так как она покрыта густою высокою травой; или более или менее безвредно, то есть, быть может, и без смертельных повреждений, действовать кубарем вниз по косогору.
Подымаемся мы все выше и выше, вдруг Барсуков кричит:
- «Дале нельзя! Осыпь! Поворачивайте вверх!»
В ту же минуту вижу, муж с седла долой и упал на траву. У него и так кружится голова на высоте, а тут еще был слишком тепло одет, а главное, в меховой шапке; вероятно, кровь бросилась ему в голову, ему сделалось совсем дурно.
Казак и Барсуков подхватили его под руки, и таким образом он лежал несколько минут; сняли галстук, шапку, ему стало легче. Понемногу его довели или доползли с ним до того места косогора, где была возможность спуститься вниз, стали спускаться или, вернее, сползать к реке, косогор кончался рыхлою земляною осыпью сажен в пятнадцать вышины, не более, но совсем крутой.
Костя, сойдя с лошади, скатился вниз довольно искусно. Лошади осторожно, боком, как-то особенно изогнувшись, переступают по мягкой осыли и катятся или, вернее, ползут вместе с ней; вовсе не так страшно, как казалось. Хуже всего на поворотах.
Барсуков предложил идти низом, заметив, что только придется много раз переходить Берель; решили идти через Берель. Четыре раза мы перешли вброд. Видели около воды следы копыт, как Барсуков называл, козлов, но едва ли это не сайги.
Все были в духе, болтали; я все дразнила Барсукова, что он нахвастал, что покажет ледник; он защищался, наконец с торжеством воскликнул:
- А это что?
- Где? Я ничего не вижу!
- Самый ледник и есть!
Между двух высоких гор, неширокое ущелье было загромождено отлого понижавшейся серо-шеколадной массой, которая круто упиралась в высокую, почти отвесную каменную осыпь, охватившую ее полукружием и уходившую в ущелья; под ней высились исполинские зубцы какого-то чудного кремня.
На осыпи сверкала серебряная лента Берели. Это и был ледник с своей конечной мореной.
Величавая картина эта до того не сходна была с тем, как воображала я себе ледник, что я не верила глазам, и вслух выразила свое сомнение, чем и заслужила полное негодование Егора Титыча:
- «Что же это вы, барыня, в самом деле! Разве Егор Барсуков хлопуша какая? Как же это я навру!»
Муж, бывавший на ледниках, подтвердил, что это точно ледник. Берег, по которому мы подошли к леднику, снова значительно поднялся, и против морены кончался так круто, что нельзя было сойти; пошли искать спуска, обрели снова земляную осыпь, по подобию первой, и спустились таким же способом, как с первого спуска.
Берель из-под ледника падает тремя каскадами, и у подножия морены разбивается на несколько рукавов, очень не широких, но таких бешеных, что Егор Титыч, перебравшись через один из них, закричал, чтобы мы за ним не шли. Он пошел вверх, куда-то в сторону по морене, а мы отправились против нее правым берегом Берели, заваленным большими камнями.
Наконец на лошадях стало идти совсем дурно. Лошадей и казаков оставили тут, а сами стали карабкаться дальше, перескакивая с камня на камень; местами, поднявшись немного на крутой берег, против морены, находили родимую чернику, которую не видали с выезда из Петербурга.
Ж. и Осман так увлеклись черникой, что отстали от нас. Наконец мы прошли то место, где Берель падает с морены и круто поворачивает влево. Тут стало возможно подняться по морене к леднику. Нельзя сказать, чтоб особенно удобно; огромные камни нагромождены один на другой, да и круто.
Карабкались мы долго; вода между камнями струится холодная, отличная. Несколько раз мы садились на камни, пили и смачивали себе голову; наконец добрались до ледника. Вблизи, сквозь сырую массу песка, так и сверкал лед; весь видимый нам ледник состоял из громадных глыб льда; верхние массы льда, в виде зубцов и башенок, местами до того обтаяли, что торчали в виде шпилей; одна остроконечная ледяная башенка треснула вдоль и поперек, и стояла наклонившись совсем на сторону; как мы ни желали пламенно, чтоб она рухнула при нас, она стояла, искривившись и будто поддразнивая.
В нескольких местах лед подтаял снизу, и образовал род навеса; в других местах протаял круглым окном, в котором сквозил чистый как стекло лед; в иных местах торчит иглами. Все это играло и сверкало на солнце. Из-под средины ледника била Берель, и летела вниз по морене тремя каскадами.
Упершись в противный берег, Берель круто поворачивает влево, принимает еще рукав, падающий с правого боку морены, катится уже рекой, несколькими широкими руслами. Над головами, с обеих сторон ледника, сходились к нему, почти отвесными стенами, два снеговые великана, и от них расходились лесистые горы Берельской долины.
Поразительно хорошо! Но солнце стало палить; ледник заиграл, сразу повсюду зажурчали и заструились струйки и защелкали камешки. Пора, значит, убираться! М. сказал, что и Тиндаль советует, как только заиграет ледник, уходить с него, чтобы не пристукнуло невзначай съехавшим камешком; а бывают они сажени в две в квадрате.
Спускаться было еще менее удобно, чем подыматься. Всего мы подымались и спускались по морене три часа. Сойдя вниз, я предложила свои услуги быть вожаком, - вообразила себя в некотором роде Егором Титычем. Сначала мое предложение и приняли, но дойдя до одного места, я стала советовать подняться в гору, уверяя, что, взобравшись на уступ, мы пойдем хорошею дорогой и избегнем ломанья ног по камням, нагроможденным внизу.
Муж разрешил мне идти новооткрытым путем, а сам пошел старым; М. пошел с ним, а Костя отправился за мной. Сначала пошли хорошо, но как же скверно мне стало, когда уступа, которого я ждала, взбираясь, на высоте не оказалось, а осыпь пошла все круче и круче.
Спуститься вниз, назад, нельзя, скатишься как раз на больше камни, что торчат грядой внизу, а лезть наверх ужасно. Мы поползли на коленях и локтях, из-под нас так и катится осыпь, попробуешь схватиться за большой камень, а он кубарем вниз.
Боже мой, того и гляжу, что сорвусь, а главное, мой Костя. Помочь ему ничем не могу; приказываю только не останавливаться, не оглядываться назад. Не знаю как он, но я от тревоги и не чувствовала боли, хотя коленам и рукам доставалось жестоко.
Приободряю его, а у самой душа замирает. Наконец осыпь пошла отложе, мы доползли до маленьких сосенок. Туть уже безопасно! Выбравшись подальше между ними, мы сели отдохнуть. От биения сердца я чуть не задохнулась.
Когда поотдышались и поуспокоились, я от всей души перекрестилась. Если бы несколько минут тому назад, там на осыпи, меня приговорили расстрелять за то, что я потащила ребенка на такую опасность, я бы не пикнула; а тут не услела вздохнуть свободно, стало томить неприятное сознание глупой неосторожности и ожидание неприятнейшей проповеди.
Выбравшись в кустарник, мы долго путешествовали, пока добрались до наших; между камнями тут рос низкий сосняк и множество черники, от которой мне трудно было оторвать Костю, а путешествовать вдвоем тут не вполне удобно; можно наскочить и на зверя, защиты же только маленький револьвер у меня на поясе, из которого я и стрелять не умею порядком.
Завидя нас, наши прислали нам навстречу лошадей. Спустившись к ним, мы сели в кружок в тени больших кустов. Скоро подошел и Барсуков, он был на леднике с другой стороны; жаль, что мы с ним не сошлись и не пошли взбираться на самый ледник; впрочем, он говорил, что это едва ли возможно.
В какие-нибудь три часа Берель прибыла так, что даже Барсуков, переправляясь назад с морены, думал, что пришел его последний час; мы видели, как его крутило. Против морены, между камнями, росла необыкновенная черная смородина; куст не более полуаршина вышины; листья очень миниатюрные, и ягоды не ветками, а больше на стеблях; чрезвычайно душистая и смолистая.
Возвращались назад теми же бродами, теперь более глубокими, и, слава Богу, благополучно. Все пришли в отличное расположение духа; толковали, рассказывали свои впечатления. Нас поражало, что птиц здесь совсем не видно и не слышно.
Подошли и к знаменитому карнизу. Миновать его нельзя, а за мужа смертельно страшно, чтобы не сделалось с ним дурно. Но делать нечего, идти надо. Муж ни разу не взглянул вниз и прошел благополучно. Не доходя версты четыре или пять до нашей стоянки, Ж. подъехал к нам и заметил, что хорошо бы подняться на гору, у подножия которой мы шли; с нее, говорят, видны и Катунский, и Берельский ледники.
Эта картина, при закате солнца, должна быть великолепна. Я тотчас к мужу; он разрешил, с тем однако условием чтобы Барсуков шел с нами. Барсуков был впереди; мы понадеялись, что нам его пришлют, и тотчас стали подыматься в гору.
Охотников, кроме меня и Ж., никого не оказалось. Долго шли мы зигзагами вверх, изредка останавливались на минуту, чтобы дать вздохнуть лошадям; приходилось скакать через рытвины на косогоре; у Ж. три раза рвалась подпруга, но как-то ни на что не обращалось внимания; одно было желание добраться до верху.
Гора оказалась, однако, выше, чем мы предполагали; мы не добрались еще до вершины, как солнце село. Мы все-таки продолжали взбираться; поднялись, наконец, до последнего уступа; еще несколько сажен, и мы у самого гребня; там еще один подъем, и мы достигли бы нашей цели.
Но как часто бывает в жизни, тут-то и оказалось непреодолимое препятствие. Лошадь Ж. задохнулась и стала. Посмотрел он, видит, делать нечего; заставлять ее подыматься еще выше - невозможно; как ни было жаль, пришлось вернуться.
Видя, что очень стемнело, и боясь, что будут о нас беспокоиться, мы вниз всю гору катили рысью, несмотря на то, что у Ж. лошадь была измучена, а моя лягалась как осел, только ее тронешь нагайкой; вероятно, благодаря только третьему рожку моего, превращенного в мужское, дамского седла, который служил мне точкой опоры, я не перелетела ни разу через голову.
Спустились мы, сравнительно, очень скоро, если принять в соображение усталость наших лошадей. Версты за две нас встретил старшина. Подъезжаем к нашей стоянке; темно совсем; костры ярко пылают; около них капошатся люди; чайник кипит; картина самая успокоительная и приятная.
Но Егор Титыч только нас завидел, заревел:
- «Куда это вы, Бог с вами! Да теперь черный зверь шляется! Темень какая. Да как же это можно!»
Услыхав возгласы Барсукова, и видя, что муж лежит у костра, не поварачивая ко мне головы, сообразила, что, должно быть, сильно о нас тревожились. Видя, что дело плохо, я поскорей скрылась в юрту и легла спать. Впросонках слышала, как решили идти не на Рахмановские ключи, а на Язево озеро и оттуда прямо в кочевья Микайле. Ж. и Барсуков с ночи отправились на поиски медведя.
VII.
Котон-Карагай, кочевье Микайле. От Белой Берели, через Язевое озеро, 45 верст.
Мы шли Берельской долиной, спускаясь вдоль хребта, который разделяет Берель от Катуни. Прошли небольшой перевал и пошли лесом. Берель ушла влево. При выходе из леса справа показалась Катунь, но, к сожалению, знаменитого ее водопада не видали.
Пошли равниной, по которой извивалась Язевка. Приходилось обходить и проходить большими болотами. Потом опять шли рощами; множество ключей, дорога кочевая, места прелестные! На лугах цвело множество гинциан. Барсуков рассказывал, что они употребляют этот цвет как лекарство от кровавых поносов; по его рассказу, действие настоя гинциан должно быть сильно наркотическое; когда его дают больному, он засыпает, и все время, что спит, стараются ничем не потревожить сон.
После сна, по его словам, иногда с одного приема помогает. В их деревнях, так же, как и в Бухтарме и у нас в Семипалатинске, в летние месяцы на детей повальная болезнь - кровавые поносы. В Семипалатинске и, как мне говорили, в Бухтарме, большинство детей умирают, а в деревне Барсукова в это лето из двадцати больных умирало восемь-девять, что составляет разительный контраст со смертностью у нас.
Пройдя верст 20, мы пришли к Язеву озеру; оно верст пять длины и около версты ширины. На противоположном берегу в кедровнике на склоне горы стояла избушка, вероятно, зверовщиков. Пройдя озеро, мы поднялись на горку и остановились в роще.
Какой вид открывался отсюда! Я такого не видала! Язево озеро лежит зеркалом в зеленой долине, уходившей на далекое пространство и обрамленной венцом темных лесных гор; из-за них подымались красные и фиолетовые каменистые вершины; на заднем плане, подымаясь над горами и завершая картину, белела и сверкала в лучах солнца снеговая красавица Белуха. Берельский и Катунский ледники были совершенно видны.
В трубу хорошо было видно на Берельском леднике, за зубчатым кремнем, гладкое ледяное поле; на одном из уступов кремня лежал громадный камень. Жаль, что он не съехал при нас. Катунский ледник, по словам Барсукова, отлог, так что на него легко взойдти.
Долго мы просидели на Язевом озере, любуясь прелестной картиной; наконец поднялись и пошли. Из озера снова выбегала Язева и, пробежав около версты, падала водопадом сажен в 8 вышиной. Около водопада мы спустились довольно крутым спуском, перешли Язеву и пошли левым берегом.
Еще видели тут другой водопад, летевший между деревьями с вершины горы. Нам пришлось идти узкой долиной, по сторонам ее на горах был когда-то лесной пожар. Черные, обгорелые деревья стоят и лежат по горе и всей долине; то и дело приходилось перескакивать через них.
Раза два пришлось идти каменным болотом. Ягод была бездна, и нам постоянно подносили веники смородины. Долго мы шли этой долиной; прошли рощу, в которой встретили Ж. и Барсукова, вернувшихся с неудачной охоты; перешли вброд Берель, и по широкой, великолепной долине направились к кочевьям Микайле.
Моя лошадь, тряская на рыси и брыкливая для скачки, оказалась бесподобной; мне на такой еще не случалось езжать. Летит как птица и скачет как коза. Ж. торговал ее для себя, но киргиз ни за что не продал, говоря, что готовит из нее бегунца (то есть скакуна).
На другое утро мы выступили в 6 часов утра. Много киргизов нас провожало; старик Микайле, несмотря на свои 82 года, на лошади просто молодец. Уркунча просил заехать к нему в гости; вещь весьма неприятная. Понятия об опрятности у киргизов весьма своеобразные: какой-нибудь батырь или султан, в жалованном халате или казакине с эполетами, случается, высморкается в полу казакина, а потом этой же полой вытрет и чашку, в которой подает вам воду.
От Микайле мы пошли бесподобной местностью, и хотя нам встретились карниз и крутой спуск, но далеко не берельский и не рахмановский. Спустившись со спуска, мы пошли рощами. Такая прелесть, что невозможно передать, просто рай земной!
Наконец прошли мы и к обиталищу жителей этого эдема. Кругом юрты целое собрание киргизов. Байбиче, то есть жена Уркунчи, встретила нас и помогла мне сойти с лошади. Юрта, как обыкновенно, убрана коврами, вышитыми полотенцами, на некоторых узор замечательно похож на нашу русскую вышивку петухами.
Кругом деревянная решетка, составляющая остов юрты, сундуки в виде диванов, покрытые коврами и курпе, то есть шелковыми одеялами. Мы сели рядышком по одной стороне юрты, байбиче и дети Уркунчи; народу набралось целая юрта, и все, присев на корточки, глядели на нас во все глаза.
Уркунча поставил посреди юрты огромную деревянную чашу с медными ручками для кумыса. Старшая дочь его, довольно красивая дева, супорила (пенила) кумыс в сабе (большой кожаный мешок из бычачьей или верблюжьей кожи, в котором заквашивается кумыс).
Кругом большой чаши расставили фарфоровые маленькие, вроде наших полоскательных; налили кумыс из сабы в чашу; из чаши Уркунча черпал ковшом, вроде нашего супового; началось подчиванье; несмотря на невыносимый жар и жажду, зная приготовление кумыса, я не решилась пить.
Около дверей юрты выставили тоже чаши с кумысом для казаков. Потом мы хотели поподчивать хозяев чаем, но Уркунча не допустил. Заварили чай нельзя сказать чтобы в привлекательном чайнике; Уркунча достал из сундука сахар и собственноручно наколол.
От чая отказаться было невозможно. Осман, зная меня, достал наш калмык-баш (походной погребец, полушаром, в который укладываются чашки, вроде маленьких полоскательных, отличная вещь для конного путника) и подал чай в нашей чашке; но вкус чая отвратительный, вероятно, или алтай-чай, то есть бадан, или кирпичный.
Сделав несколько времени вид, что пью, я передала байбиче Уркунчи свою чашку; кстати, у киргизов это считается утонченнейшей любезностью. После чаю Осман принес ящик с конфетами в золотых бумажках и с картинками.
Я стала оделять детей Уркунчи; одному дитяте было лет 17ть, да и старшая дочь была в числе детей. Все они с величайшим удовольствием рассматривали конфеты. Несколько человек из киргизской публики подскочили к ним без церемонии, выхватили по конфете и, посмеиваясь, снова уселись на корточки.
Начались хорошие речи: Уркунча говорит любезности, Осман переводил по-русски; муж отвечал такими же, и Осман переводил по-киргизски. Жена Уркунчи поднесла мне аршин шесть канфы; Косте досталось тоже около шести аршин шерстяной материи, а сын их подвел Косте кунана, то есть двухгодового жеребенка.
Осман принес наши подарки: Уркунче - сукна на халат; ему и его брату - шитые золотом аракчины (шапочка на голове); жене и старшей дочери ситцу на платья, а Костя отдарил сына серебряным стаканом; всем остальным детям роздали по нескольку двугривенных.
Поговорив еще друг другу любезностей, вышли из юрты; сама байбиче держала мне стремя и помогала сесть на лошадь. «Аман, аман, аман!» Пожали друг другу руки, и отправились дальше. Верстах в двух от юрты встретили стадо яков.
Корова длинна, но не высока, комолая, с длинной, волокнистой шерстью, как у болонки, и великолепный, длинный, пушистый, лошадиный хвост. У быка громадные, по росту, рога, и он не мычит, а как-то хрюкает. Почти все стадо снежно-белое, удивительно красивое.
Скоро мы дошли до Бухтармы, в этом месте далеко не так глубокой, как на первом броду. От Микайле за нашими лаучами (верблюдовожатые) побежала собака; я очень боялась, что она утонет при переходе вброд, но зверь казался бывалый.
Перейдя брод, сошли с лошадей, и расположились в роще, на берегу. Так как большинство выехало от Уркунчи голодное и жаждущее, стали разводить огонь и греть чайник. Барсуков с двумя казаками отправился неводить. Барсуков завозил невод на лошади, а казаки тащили с другой стороны.
На лошадях мы прошли этот брод почти не заметив его, а пеших так и сбивало с ног, так и тащило. Тут я уразумела несостоятельность рассказа, который я только что прочитала в одном из журналов, об американских героинях: как одна пятнадцатилетняя девушка отправилась ночью в путь, чтобы передать депеши в свой лагерь, и что она перешла ночью, вброд по затылок, быструю горную речку.
Это такой подвиг, что ни на русских, ни на американских ногах не совершишь, как ни геройствуй; дело совершенно невозможное; кто писал это, вероятно, никогда не видал быстрых, горных речек. Два раза ходили с неводом, но ничего не поймали.
Перешли еще раз Бухтарму; этот брод был сериознее. Собака меня совсем сокрушила; к нам, русским, нейдет, а киргизам не могу растолковать, чтобы взяли ее на лошадь. Но собачка обошлась собственным умом и опытом; стоит на берегу и выжидает; как пошли верблюды в воду, она забралась еще выше их и пустилась, так что, вслед за верблюдами, выбралась на отмель; отдохнув, повторила тот же маневр, но тут ее потащило; она не шелохнется, так и несет ее боком, как бревно; я поскакала с Османом по берегу, чтобы где-нибудь попробовать ее перехватить; но она опять сама распорядилась; не тратя сил напрасно, неслась бревном до удобного места, тут сразу стала выбиваться и выбралась на берег.
Видно, ей дело знакомое. Скоро пошли Бухтарминской долиной; как она ни хороша, но до того однообразна, что будто с места не сходишь. Далеко от своих уезжать нельзя, и потому скорость езды ни к чему не ведет; проскачешь, а там стой и жди.
Костя носился по долине на высокой белой лошади, на которой он сидел как воробей на крыше, и пытался ловить перепелов, которых тут множество; разумеется, все его ухищрения были тщетны. Ж. отправился с Барсуковым в лес в чаянии встретить марала или сайгу.
Жар стоял невыносимый; и до того надоела эта долина с своею роскошною обстановкой и великолепною колесною дорогой, что жаль стало подъемов, спусков и бродов. Однообразно; солнце палит; мы тащимся шагом за шаг в течение нескольких часов.
Казаки вяло тянут лесни: просто ушам больно. Наконец солнце догадалось убраться; мы вздохнули свободно, и тут же, как назло, вошли в рощу, тогда как весь день шли солнцепеком. В этой роще нам попалась горка, вся усыпанная клубникой; тотчас с лошадей долой и на подножный корм.
Ж. и Барсуков выехали на это же место. Им попался в лесу великолелный козел, но ушел. Они рассказывали нам, что видели недалеко в лесу целую бездну смородины, крупной как вишня. Ж. стал подговаривать нас туда ехать.
Мы не решались, и говорили ему, что он действует как змий, но, однако, змия послушались, сели на лошадей и поехали за ним. Смородина росла в лесу по другую сторону речушки, бившей в этом месте по большим камням таким каскадом, что первую минуту мы осадили лошадей; но видя, как Ж. не задумываясь вскочил в каскад и благополучно выскочил на другой берег, я переправилась за ним, потом он перевел на чумбуре Костю.
Набрав ягод, мы вернулись к нашим. Место, где расположились на ночевку, около зимовки Уркунчи, прелестное. Бухтарма, широкая в этом месте, с шумом падает с уступа, и около нашего берега быстрина такая, что, стоя около воды, смотреть страшно; голова кружится; по обоим берегам растут высокие деревья.
Вся зеленая долина кажется замкнутой кругом высокими горами, так что М., оглядевшись на все стороны, воскликнул:
- «Да как же это мы сюда вошли!».
Все общество рассеялось на самом берегу и стало забавляться бросаньем камней в воду. Осман и Ж. таскали такие, насколько хватало сил поднять, и бросали в воду; судя по звуку с которым они падали, можно заключить, что тут очень глубко. Мы хохотали на их соревнование, и только заботились, чтобы вслед за камнями они сами не кувыркнулись в воду.
VIII.
15го августа, речка Урыл, от зимовки Уркунчи 30 верст. Чингистай, от Урыла 25 верст.
Выступили в 7 часов утра, пока солнце не поднялось высоко, и шли перелесками; идти было наслаждение. Невозможно передать животворную свежесть воздуха, переливы света и тени сквозь густую листву; блеск и прелесть цветов и богатых трав, сверкающих от росы; радужную игру солнечных лучей в ревущих каскадах; это такая гармония, такая прелесть; чувствуешь только, как глубоко проникается все существо неизъяснимым чувством радости, довольства, счастья, именно душа поет.
Но часа через два вышли на ту же долину, по которой шли сюда, и точно нарочно, опять в полдень; томились от жару ужасно. Выезжали здороваться киргизы и, разумеется, подчивали кумысом. Наконец, ко всеобщему удовольствию, стали подниматься в гору; снова пошли пересеками, и отдохнули от зноя.
Дорога отличная; небольшие подъемы, хорошие спуски, цветы, ягоды, идешь точно парком. Егор Титыч рассказывал, как они управлялись, прежде, в этих местах, с китайцами.
- Иду, этта, я этой самой долиной, - говорит он, - веду лошадь в поводу, потому маралиху убил и навьючил на лошадь. Вдруг шесть китайцев обступили, ухвали кто меня, кто коня.
- «Ты чего ходишь по нашей земле?»
Вижу: безоружные. У меня винтовка, а стрелять в них нельзя. Вот я и говорю: подержите коня, а меня пустите, мне только жердину вырезать. Пустили. Я стою, вырезаю эвокую дубинищу, а они стоят, смотрят; я ее от ветвей очистил, подошел, да как бацну по пальцам того, что лошадь держал.
Он заревел, повод бросил; а я их и принялся лущить; сначала все тонким концом, а потом комлем. Они в разные стороны.
«У! - кричат.
- Не знали мы, что ты такой медведь!»
Я взял лошадь и повел; они в меня камнями швыряют; я пошел, пошел болотом, так и ушел. А то вот еще наших несколько человек захватили китайцы на Чингистае, и потащили. Мы, говорят, представим вас нашему начальству.
- «Постой!» - думает один; стал у дерева, да и царапает ножом, а сам безграмотный.
«Это, - говорит, - чтобы наше начальство знало что вы с нами сделали».
Те что-то промеж себя посудили.
- «Ну, - говорят, - идите; ну вас!» Пошли наши и видят, как китайцы скребут с дерева то, что наш-то нагородил! Хохотали же наши!
Ягод всю дорогу было столько, что весь отряд ехал с вениками смородины; между прочим тут была смородина видом листьев, вкусом и видом ягод - красная, а цветом совершенно черная. Не знаю, почему этот отличный, небольшой переход (всего 30 верст) видимо утомил всех.
Казаки время от времени затягивали песни, но тоже сонно, вяло, и тянули за душу. На Урыл мы пришли часа в четыре. Расставили юрты на берегу, на очень красивом месте; мученье было только в том, что весь луг порос колючками, коловшими сквозь ботинки; весь мой атласный бешмет покрылся ими.
Напившись чаю, предложили устроить карточную игру в ожидании обеда; а ожидать его скоро было нельзя, так как верблюд с кухней и провизией, сочувствуя общему утомлению, лег не доходя нескольких верст, и с обычною кротостью, стойкостью и упорством отказывался идти, как его ни дергали за проткнутый нос.
Послали перевьючить с него на лошадей. Уселись мы на ковер, поставили вместо стола ящик; Барсуков подсел тоже к нам, посмотреть, как это в карты играют. Сначала преферанс не имел на меня обычного, снотворного действия; смеялись и болтали, но после четырех туров, сил моих не стало; я положила под голову меховой бешмет и продолжала преферанс лежа, ожидая только блаженной минуты, когда мне сдавать карты, и сдав их, тотчас закрывала глаза.
Горе в том, что без обеда лечь спать нельзя, не хватит сил на завтрашний переход, а утром кроме чаю с сухарями ничего не добудешь. На другой день мы отправились на Чингистай; день был снова жаркий, и мы порядочно испеклись, пока добрались до места.
Дорогой из леса, в полгоры, выскочили два козла и, проскакав несколько сот сажен пред нами, скрылись в ущелье. На Чингистае нас встретил старшина Чумике, брат его Байчура и пр. Место, где расставили юрты - славное; усеянный цветами луг идет отлогим спуском, верст на пять, до Бухтармы; по берегу ручья, бегущего с гор, через луг до реки, зарос густой тын.
К горам луг кончался густым кустарником; за ним большой, зеленый уступ и лесистые горы. К нам присоединилось еще трое зверовщиков, соседей Барсукова, из деревни Фыкалки. Тоже славный, развитой народ, привыкший и умеющий жить зажиточно и самостоятельно. Например, здесь выгодно вести торговлю с китайцами молодыми маральими рогами, пока они мягки. В Фыкалке, стоящей в горах выше других деревень, устроен, как крестьяне называют, сад, в котором голов тридцать маралов.
Сад этот в самой чернети, то есть густом лесу, и окружен на пять верст бревенчатою стеной, в полторы сажени вышины. Каждую весну хозяева этих маралов спиливают им молодые рога, когда они еще налиты кровью; потом залечивают, и таким образом каждый марал дает ежегодно порядочный доход.
Замечательно, с каким любопытством и толком зверовщики рассматривают специальную карту края; и так как каждый из них знает этот край в совершенстве, то делают замечания, указывают неверности. Несколько лет тому назад в здешнем крае был сильный падеж скота.
В Фыкалке не пало ни одной головы: крестьяне сами, без всякого вмешательства начальства, устроили строгий карантин, и спасли весь свой скот. С киргизами у них частые истории за баранту; недавно было еще время, когда убить киргиза было так же просто, как убить зверя.
Привычка жить в лесу до того прививается к зверовщикам, что делается необходимою потребностью. Мы встретили старика лет семидесяти с молодым зверовщиком; как-то разговорились с ним, и выразили, что в его лета эта жизнь должна быть очень трудна.
- А вот как, - отвечал старик: - как придет время идти на промыслы, так ни мне, ни моей лошади не спится под кровлей.
Узнав, что мы идем чрез Курчум на Черный Иртыш, приехавшие трое зверовщиков стали просить позволить им идти с нами, говоря, что они идут к не подданным России киреевцам хлопотать, чтоб им отдали незадолго отбарантованных 37 лошадей.
Разумеется, мы позволили. Долго зверовщики забавлялись, рассматривая и стреляя из наших револьверов, чрезвычайно им понравившихся; особенно они одобряли их для медвежьей охоты. После обеда пошли гулять в горы.
Нельзя сказать, чтобы было особенно приятно пробираться, до первого уступа, между талом и огромными кустами китайской крапивы и репейнику. Шли мы целый час, а до гор все не добрались; пошли тропинкой по ущелью. Здесь, как и везде, где растет дикий укроп, много медвежьих следов, а медведей нет.
Хотелось нам дойти до лесу, но это оказалось невозможным: солнце было очень низко, и мы пошли назад. Когда подходили к нашей стоянке, солнце совсем скрылось, и только розоватый отблеск остался на небе. Внизу в нашем лагерь жизнь кипела: горели костры, около толпились люди; киргизы, казаки, сидящие в кружках около огня, составленное в сошки оружие, юрты, большой табун лошадей, - все это вместе, с прелестною декорацией вокруг, составляло чрезвычайно красивую картину.
До нас долетал говор и смех; но как я ни пела, что «иду в зеленый луг», а на деле на него не попала: ручей, отделяющий нас от нашего лагеря, оказался слишком топок, чтобы перескочить через него, и слишком глубок, чтобы перейти вброд.
Все обладающие высокими сапогами пошли по морю как посуху; переезжать на киргизе я не решилась, а попросила у него лошадь, и была оной доставлена по принадлежности. У юрт, на ковре, Осман разливал чай; вся публика сидела вокруг, а Костя и Ж. бегали и возились; Костя летал от него по высокой траве точно заяц, и хотя и вопил во весь голос, но, очевидно, был совершенно счастлив.
IX.
17го августа, чрез Бурхатский перевал, урочище Торджир, от Чингистая 30 верст.
Утром, только мы встали на Чингистае, пришли доложить, что Чумикей просит нас принять лошадей, которых он для нас привел. Его поблагодарили, насыпали ему в руку мелкого серебра, но лошадей не приняли, так как у нас не было более с собою ничего, чем его отдарить.
Чумикей стал было входить в обиду; тогда ему сказали, что хотя знают, что у них в обычае меняться подарками, но в последнее время замечено, что под видом подарков их обирают, почему просили передать всем киргизам, чтоб они никому никогда не давали ничего, кроме податей, которые следуют по закону.
Из Котон-Карагайского отряда привели свежих лошадей для казаков и привезли провиант. Нам тоже привезли хлеба; последнее время мы сидели на одних черных сухарях, с приправой неизменных баранины и чая. Тут же мы получили почту, в первый раз с тех пор, как выехали из дому; узнали о войне Франции и Пруссии, и отправили свои письма домой.
Всех сильно заняла война, даже зверовщики интересовались и расспрашивали. С Егором Титычем мы тут простились: он отправился в Белую, к себе в деревню, чтобы заняться хозяйством, и потом, пока есть еще в горах дорога, начать делать запасы хлеба в лесных избушках, на время промыслов.
С нами пошли три зверовщика и киргизы Байчура и Полковой. Зверовщики предложили идти не чрез Курчум, где, говорили они, придется переходить много каменных болот, идя все время по вершинам, что будет очень холодно и идти дурно; потому лучше прямо спуститься на озеро Маркакуль и пройти вдоль берега до истока Колджира, где нас встретит часть Майтерекского отряда и сменятся сопровождавшие нас казаки.
Прямо с Чингистая стали подыматься на те горы, к которым ходили вчера. Выступили на свежих лошадях; казаки дружно, славно пели; очевидно, все чувствовали себя бодро и весело. В горах было еще холодно, но яркое солнце обещало скоро обогреть.
Поднявшись лесистым подъемом на первый уступ, мы пошли кедровым и лиственничным лесом, продолжая подыматься. Вдруг слышим: казаки хохочут, оглянулись: казак сидит с одурелым видом на земле, а лошадь из-под него ушла.
Он зазевался, и его суком кедра выбило из седла. Казаки долго этим потешались. Потом я чуть не последовала его примеру: стала вкладывать цветок в книжечку и бросила свой зонтик, устроенный на нагайке; он стал болтаться на шнуре сбоку, лошадь испугалась и стала бить, но дело окончилось благополучно.
Сквозь чащу леса, когда мы выходили из него, виды открывались великолепные: вся Бухтарминская долина была пред нами. Наконец начался настоящий подъем, как говорили заранее зверовщики, очень трудный, особенно для верблюдов.
Крутизна страшная, а весь подъем завален огромными камнями, по которым должны карабкаться лошади. Карниз тут небольшой и довольно широкий, но над отвесною стеной тысячи в две футов. Все, у кого лошади послабее, или у кого кружится голова, спешились.
Взобравшись, дали лошадям вздохнуть и пошли равниной, где, несмотря на полдень, было очень холодно; во многих местах кругом лежал снег. Прошли мы мимо озера, сажен сто длины и сажен 15 ширины, лежащего в довольно глубокой котловине; на нем плавали утки.
Здесь говорят, что этому озеру дна нет; окраины его затягивает болото; беда попасть в эту трясину. Наконец поднялись мы и до Бурхатского перевала; по мере подъема - какие-то встрепанные, низенькие, кривые или просто лежащие хвойные деревца.
У стоящих все сучья растут в одном направлении, именно по главному направлению ветра. Каменистая местность покрыта сланцевыми сопками, но между небольшой травкой, во множестве цвели прелестнейшие иван-да-марья, чрезвычайно крупные, одного, ярко-палевого цвета; были тут и гинцианы, но не синие, а белые.
Холодный ветер пронизывал нас до костей. Зверовщики говорили, что когда здесь задует, да со снегом, так и Боже избави, лошадиных ушей не увидишь. Пройдя еще немного, они пригласили нас посмотреть назад. Мы повернули лошадей и стали как очарованные.
Опять она, наша красавица Белуха, но теперь уже во всем своем величии, блистая серебристой белизной своих шпилей, ока ярко вырезалась на синем фоне неба и венчала разбившиеся во все стороны от ее подножия на необозримое пространство горы и долины Алтая.
Этот исполинский ландшафт, эта громада божественной, вечной красоты, нас, уже привыкших за это время к грандиозным и чудным картинам, совершенно поразила. Долго, долго стояли мы все молча. Еще несколько времени мы продолжали подыматься отлогими, незаметными подъемами и наконец пришли на самый перевал; на гребне высокой сопки стоят пограничные столбы, то есть большая груда камней с одним камешком, торчащим на верхушке ребром.
Спустившись с этого гребня, мы были уже за границей, в Небесной империи. По небольшому отлогому спуску дошли до речки Тарбагатай и тут остановились на привал. Согревшись чаем и закутавшись кто как мог, пошли дальше: пришлось перейти несколько ручейков, бегущих в глубоких, каменных берегах.
У Кости лошадь поскользнулась и упала на бок; догадался ли он сбросить стремена, или так вылетел счастливо, но лошадь придавила ему только кончик сапога, по его собственным показаниям; отлетел он не на камни, а на траву, так что не ушибся.
Скоро дошли до речки Кара-Каба, что значит Черная Кусака; русские же зовут ее Сорва, оттого, пояснил нам зверовщик Ларионов, что она срывает человека с лошадью. Кара-Каба течет в узком ущелье, но по берегам такие же богатые луга, как и по Бухтарме и Берели, и те же горы, покрытые до половины лесом.
В Кабе бездна ускучей, род нашей форели. Ж., взяв удочки, отправился с одним из зверовщиков удить. Через час мы поравнялись с нашими рыбаками, у них уже болталось на веревочке несколько великолепных ускучей. Перешли Кара-Кабу вброд и пошли левым берегом. Ущелье стало суживаться больше и больше.
Проводники толковали, что где-то скоро будет хорошее место для ночлега.
И как, бывало, приставали к Барсукову:
- «Скоро ли придем на место?», так теперь стали обращаться к Ларионову:
- «Ларионов, скоро придем?» - «Скоро, барыня, скоро; вот как этот выступ пройдем, да эти щеки подойдут, тут и есть». Но щеки долго не подходили, и наконец, когда они или, вернее, мы к ним подошли, то мы представляли плачевную картину, все синие и закоченелые от холода.
Пока пришли верблюды, то есть тепло, в виде чая и юрт, мы ходили взад и вперед по долине и грелись этим способом. Я видела омут на Кара-Кабе; должно быть, очень глубокий. Что только доплывет до него, раз попав, начинает бесконечно кружиться.
На самом берегу реки стояла громадная сухая лиственница, кругом купой росли ели и пихты. Как во время жажды только и мечтаешь о воде, так и тут, замерзая, мы готовы были поклоняться огню; я поразмыслила вслух, что вот бы хорошо зажечь эту сухую лесину.
Сочувствие к огню было, вероятно, общее; в одну минуту, под предводительством, Ж. и Османа, запылал около лиственницы костер; с их легкой руки, всякий тащил то, что может, в костер. Смотрим, и казаки пристали, подрубили другую громадную сухую лесину, повалили ее, с хохотом и криком притащили в огонь.
Расходились, побежали рубить ели; так целиком и валят в костер. Огонь сразу охватывает смолистые иглы.
Снова кричат:
- «Помогите братцы!» Еще тащат лесину. Это, говорят, кочерга, огонь ворошить!
Такой развели костер, что небу становилось жарко, и мы, как какие-нибудь огнепоклонники, сидели около него кружком. В сумерки ствол лиственницы зарделся, и огонь побежал по сучьям.
- «Вали еще с этой стороны! Тут еще не горит!» И опять масса елок летит в огонь.
- Отойди ребята! зашаталась!
Все отбегут и смотрят, ожидая - вот рухнет; а она себе стоит да стоит.
- Молчите, я ее арканом! - вызвался молодой казак.
Навязал камень на конец веревки, замотал его и пустил; аркан взвился и как змея обвился вокруг большого сука.
- Ну, ребята, ташши!!!
Потащили; аркан лопнул, и все разлетелись кто куда. Хохоту было без конца. Когда совсем стемнело, огромная лесина горела удивительно красиво; весь ствол был огненно-прозрачный, по сучьям змейками перебегало синеватое пламя.
Началась новая забава, сбивать лесину камнями. Чуть не весь отряд занялся с таким одушевлением, что приходилось унимать:
- «Тише!», «В реку не сорвись!», «В голову кому-нибудь не угоди!»
Кто-нибудь пустит камень, он пролетит между сучьями и бухнет в воду. И снова взрыв хохоту и шутки над бросившим; зато если кто собьет большой сук, в который давно метили, кричат и гвалтят, точно Бог знает что случилось.
- Рябята! огонь ворошить! Давай кочергу-то!
И несколько человек, пристроившись к срубленной лесине, начинают шевелить ею костер и бить как тараном в горевшую лиственницу; та всякий раз дрогнет, и огненный дождь посыплется с нее.
- Эка, стоит!
Бросили; надоело. После обеда все разошлись по юртам, казаки пропели «Отче наш», и весь отряд, кроме часовых, погрузился в сон.
X.
17 августа, урочище Теректы близь станции Маркакуль.
На следующее утро смотрим: стоит наша лесина. Оказалась она такой толщины, что одна только половина ее сгорела, а та, что над рекой, цела и, верно, простоит до следующего подобного костра. День был серенький. Время от времени перепадал дождь и было холодно.
Сначала шли тем же ущельем по берегу Кара-Кабы; дорога хорошая, и Ларионов рассказывал россказни. Очень хвалил Барсукова и особенно его покойную мать:
- Умный, справедливый была человек, честная душа. Пока жива была, сын не хотел и жениться; да у нас рано и не женятся, барыня; вот и я, и вот другой что с нами, мы поздно женились; а вот этому молодцу, холостой он, — а уж тридцать пять годов. Ведь такая жизнь наша; с одиннадцати годов отцы приучать начинают, с собой промышлять берут.
- У тебя, Ларионов, есть дети?
- Как же, барыня, есть, четверо есть. Сыну одиннадцать лет. Мать не давала, а я его взял; ходил со мной белок промышлять, маралов, козлов.
- Хорошо стреляет твой сын? У тебя ведь винтовка тяжелая.
- Хорошо, ничего, хорошо и белку и всякого зверя.
- А как, - обратился Ларионов к другому зверовщику, - нам как будет сполитичнее пройти-то?
- Так и идти, тут хорошо.
- Карнизом или бродом?
Мы взглянули, карниз хуже берельского, такой же узкий, с такой же горой в виде стены с одной стороны и вдвое большей осыпью с другой
- Не хорош этот карниз, не хорош; в эту пору еще ничего, а весной, когда скользко, совсем опасный, тогда и броду нет, тут ходим; пешком идем, а лошадь в поводу, этой весной кобыла наша сорвалась; вьючная была.
- Убилась?
- Убилась, как же, убилась.
Зверовщики повели нас вброд, и, миновав карниз, снова перебрели на правую сторону. Скоро мы подошли к другому карнизу; этот был гораздо ниже, шире и безопаснее берельского. Тут произошло сильное недоразумение: идти ли карнизом или бродом.
У одних кружится голова на высоте, у других на высоте и на воде. Одни предпочитают идти бродом, другие окончательно отказываются идти еще вброд. Разделились на две партии, одни пошли бродом, другие карнизом.
Ларионов счел долгом нас предупредить:
- Кыргыз вот Байчура сомневается, говорит, галька, круглыши и шибко каменисто.
Прошли брод очень хорошо.
- Вот барин-то ваш, - начал Ларионов, - на воде молодцом, а…
- А на крутизне у него голова кружится, - договорила я, видя, что он заминается.
- Да вот, подишь ты, как это бывает. А вот вам, походить бы еще с нами, так ровно бы наша крестьянка стали.
Шли мы лесистым берегом, снова продовольствуясь смородиной; кто-то пожалел, что такое множество ягод пропадает даром.
- Зачем пропадает! Нисколько не пропадает, - вступался Ларионов.
- А черный зверь-то? Черный зверь всю ее объедает. Станет на задние лалы, в передние соберет ветки, ветки-то соберет, да и ест. Мудрый он зверь, мудрый, мудер.
- А что, тебя мудрый зверь ломал?
- Нет, барыня, нет, Бог миловал, нет, не ломал. Бивать их бивал много (сколько десятков, не помню), а случаю не было, нет, никакого. Вот отца моего сгрыз медведь; он и теперь горбатый, убогий, совсем его испортил. В это время мы увидели, что все, кто пошел карнизом, слезли с лошадей и идут пешком, а местами и ползком.
Только что мы посмеялись, глядя, как они ползут по карнизу, моя лошадь, переходя снова Кара-Кабу, ткнулась и окунула меня выше колен; должно быть, в назидание: не смейся чужому горю. От такого купанья у меня сделалась лихорадка; я отправилась вперед рысью, чтобы согреться, но зубы так и стучат.
К довершению спектакля пошел дождь. Доехав до первой кедровой рощи, мы сошли с лошадей и стали, не дожидаясь приказаний начальства, разводить костер. Скоро подошли наши; видя мое печальное положение, приказано остановиться.
Завернули мне ноги в Османов кебентай (войлочный плащ), а мои ботинки и чулки вертели на палочках пред огнем. Закипели чайники, разгорелся костер, я согрелась немного, и одежды мои отчасти высохли; только высокие, драповые ботинки корчились на огне, а не просыхали.
Решились на крайнюю меру: развьючили верблюда и достали другие. Перешли еще раз вброд Кара-Кабу, потом, через полверсты, речушку, прозванную, в честь Сорвы, Сорвенком, и стали подниматься в гору. Здесь между камнями, на берегу, рос великолепный желтый мак; но он так нежен и лепестки его так тонки, что хорошо засушить его трудно.
Поднявшись на гору, пошли прелестной дорогой между большим хвойным лесом; пройдя несколько верст, поднялись еще на гору; отсюда виден Маркакуль. Он лежал синеватою полоской у подножия гор. От той горки, на которой мы стояли, лес расходился в стороны, и пред нами открылась верст на 10 зеленая долина; посредине ее извивался Сорвенок, и впадал в Маркакуль.
На долине, как быть водится, пустились во весь дух. Пройдя довольно долго долиной, повернули влево к горам, и пошли по предгорью. Шли мы, шли, а Маркакуля нет как нет. Мерзнем, несчастные; Костя мой весь посинел.
- Ларионов! Скоро твой Маркакуль?
- А вот уж тут недалеко; вот как за эту горку спустимся, да около того камня обойдем, да вон до того леска, что виднеется, дойдем, тут оно и будет Маркакуль. Близко подойдем - тут и на ночь остановимся.
Наконец прошли мы и горку, и камень, и лесок, а Ларионов идет себе да идет; будто до того разошелся, что ему и век не остановиться.
- Ларионов! да где ж Теректы? - спрашиваешь, стуча зубами от холода!
- А вот, вот они Теректы, вон эти тополя-то, только это пересохшее русло, там будет еще сухое, а там уж и речка.
Всему на свете есть конец; наконец и мы подошли к речке и остановились на ночлег. Маркакуль было в версте и отлично видно; очень красивое озеро. Верст 30 в длину и овальной формы, окружено высокими горами; берег, к которому мы подходили, не топкий и покрыт галькой; вода пресная. Зверовщики говорят, что в нем множество рыбы, преимущественно хайрузи и ускучи. Обе рыбы чрезвычайно вкусные.
XI.
18го августа, у истока реки Колджира, от реки Теректы 45 верст.
Ночью шел дождь и снег. Все горы, утром, когда мы вышли из юрт, были покрыты снегом и курились. Выступили, как и обыкновенно, с казачьими песнями, только пели сильно осипшие голоса. В этот день нам предстояло обойти озеро до истока Колджира, где нас ждали казаки Майтерекского отряда.
Слышим: хохочут у нас в отряде, и Ларионов, со своею добродушною физиономией и манерой говорить, что-то живо рассказывает по-киргизски. Я спросила Османа, что он говорит.
- Он им рассказывает, как он приходил на этот озера за рибом, и большой такой, ужасний, шибко большой один риба стоял во льду, и он ему вырубаль спину и носил к себе и опять приходиль, и опять шибко много разы рубил, и весной риба эта оживился и уплил.
Это он врет нарочно, так смеяться. А теперь его дразнят: покажи, покажи, говорят, Ларивонов, свою риба! Ларионов ударил свою лошадь, чтобы подъехать к нам; она со всей рыси споткнулась, голова у ней подвернулась и она прямо ткнулась на холку. Я такого чуда не видывала.
- Осман, что это с его лошадью?
- Он спотикал.
- Да как же это прямо на холку?
- Такой лошить; он чудесный, хороший лошить, только так ужь спотикает.
Скоро пошли высоким берегом озера, спускающимся очень круто к воде. На озере плавали мириады уток и бакланов. Ж. с двумя киргизами путешествовал около самой воды, стараясь подъехать поближе к уткам; наконец он отправился один по очень крутому месту.
Пройдя некоторое расстояние, видит, дальше идти нельзя; надо поворачивать назад; он повернулся, вернее, поднял лошадь кверху, она зашаталась и стала терять равновесие. Ж. живо свернулся и, кажется, в пятый раз покатился со своей лошадью; оба счастливо завязли в кустах.
Не будь кустов, дело могло кончиться печально. Наконец-таки Ж. убил турпана, только пришлось долго ждать, пока его принесло прибоем. Подымаясь выше и выше, мы пришли на самый край каменистого, отвесного берега, сажен сорок над водой; тут тоже сердце чуточку замирает, когда лошадь идет самым краем, или задумается перелезть через какой-нибудь камень: попятится, так, пожалуй, и в озеро улетишь; повернув немного от края, мы стали подыматься еще выше, наконец взобрались на седелку, где было несколько больших деревьев, и с удовольствием отдохнули под ними. Начиная с этой седелки, горы пошли сланцовые; зверовщики говорят, что тут водится много соболей.
Они рассказывали, что им случалось ловить живьем самку-соболя, и что она в неволе принесла маленьких. Дождь шел кругом нас, но как бы волшебством или, как мы смеялись, молитвами Ларионова, на нас не попадал: то туча прольется в озеро, то на горах, а мы идем благополучно.
Пройдя довольно много каменистым спуском, мы пошли славною зеленою долиной: в этих местах кочуют кожембеты и киреевцы. Много попадается их могил, но не таких, как мы видели в громадном числе по дороге в Зайсанский пост; там огромные глиняные здания, с башенками и разными затеями; здесь же деревянная ограда, в ней деревянный же сруб или груда камней; на могиле батыря воткнуто копье, и где-нибудь около повешен череп его любимой лошади; на могиле ребенка его колыбель.
Пройдя верст двадцать пять, остановились на привал. Курчум остался у нас вправо. Весь луг, на котором мы расположились, покрыт пионами, теперь уже отцветшими; около ручья большие купы дерев, и около воды точно бордюр из незабудок; таких крупных и ярких я не видала.
Во время завтрака, я раздавала, ради киргизской вежливости, руками куск и баранины старшинам. Они принимали, согнувшись крючком, прикладывая руку к груди и говоря любезности. Особенно изящно кланялся Полковой, приложив растопыренную руку к виску, вроде того, как у нас отдают честь.
После привала шли с час этою же долиной. Ларионов тут наконец-таки перелетел через голову своей необыкновенно спотыкающейся лошади; потом повернули влево, и стали приближаться снова к озеру, от которого отошли версты на две и подошли к самой воде.
Прибой был к этому берегу; волны с шумом вкатывались на гальку к ногам лошадей. Лошади фыркали, бросались в сторону, но, пройдя несколько времени, успокоились и только вздрагивали и прядали ушами, когда волна разбивалась у ног.
Мы тешились тем, что заставляли лошадей входить в воду; странно, что те же лошади, которые переходят так хорошо горные речки, тут пугались и не шли. Снова взобрались по каменистому подъему на высокий берег. Стало очень холодно.
Калджир виден нам почти все время, а добраться до него не можем. Наконец показалась целая толпа киргизов; подъехали к нам, соскочили с лошадей, и начались амандасы, то есть здорованье; несколько позади киргизов стояли два казака в полной форме.
Слава Богу! признак, что Калджир близко. На радостях мы с Османом пустились вперегонку, у обоих лошади славные. Ничего нет увлекательнее, как лететь по степи на хорошей лошади; киргизские лошади особенно прелестны тем, что сама она входит в азарт от соревнования; нагайкой и не трогай, только крикнешь ей над ушами, да увидит, что другая лошадь обходит, так и летит насколько хватает быстроты, летит так, что дух захватывает, в ушах воздух свищет, чувствуешь вроде опьянения и хочется еще скорей, скорей, точно крылья выросли за плечами, и вот-вот, если лошадь не пойдет еще быстрей, кажется, бросишь ее и полетишь сама! Что и случается, да только через голову на землю.
Когда мы наконец осадили лошадей пред небольшим спуском, оказалось, что скакали не мы одни с Османом, а еще к нам пристроилось несколько человек киргизов; все они скалили приятно зубы и говорили приятные речи, что они не ожидали, чтобы дженаралова байбиче решилась скакать вперегонку.
Но скакали вперегонку честно только мы с Османом, ни один благовоспитанный киргиз не обскачет начальство или байбиче, какая бы у него ни была лошадь. Через какие-нибудь минут десять, мы были уже в отряде, расположенном у истока Калджира, на низменном, зеленом берегу Маркакуля.
Пока не пришли наши, я забралась в юрту и завернулась в шубу, чтобы после скачки не простудиться, тем более что после купанья в Кара-Кабе чувствовала себя нехорошо. По приходе на Калджир, наши устроили, несмотря на холод, рыбалку.
Наловили много хайрузов и ускучей. У нас обедал начальник отряда; он между прочим рассказывал, как раз ему пришлось идти с отрядом таким местом, что лошадей приходилось спускать на арканах. Хорошо, должно быть, место!
После обеда пришли зверовщики просить, чтобы дали им письмо к киреевцам, отбарантовавшим их лошадей, и позволили идти Байчуре, что он скорее их уговорит. Муж разрешил Байчуре ехать, а сам стал диктовать письмо к киреевцам. М., сидя на ковре, писал на погребце.
Письмо было самого грозного содержания и написано самым высоким слогом.
- «Бойся гнева Белого Царя» и т. д.
Тут же толмач переписал письмо на киргизском языке, и оно было передано зверовщикам. Не подданные нам киреевцы очень хищное и дикое племя, и со стороны зверовщиков ехать к ним втроем с Байчурой было рискованно.
XII.
20е августа, урочище Сентас, место расположения Майтерекского отряда, от Калджира 55 верст.
В ночь на Калджире я почувствовала себя очень дурно; утром едва поднялась и хотела просить остаться на месте хоть день, но слышу - говорят, что тут стоянка отвратительная; между тем казаки стояли тут, выжидая нас, несколько дней.
После чаю простились с провожавшими нас от Котон-Карагая до Калджира казаками, пожелали успеха зверовщикам и сели на лошадей. Вообразилось мне, что в амазонке будет теплее, и я первый раз выехала по образу и подобию благовоспитанных барынь.
Разумеется, поверх амазонки надета была шубка. Сначала мы пошли вдоль Калджира, ущелье прелестное и напоминало клодтовские пейзажи: чистенькая зелень, речка, светлые ручейки, большие, красивые купы деревьев и яркое солнечное освещение; одно только, чего я не помню на пейзажах Клодта, это высокие, скалистые горы по бокам ущелья.
У всех были свежие лошади; мне достался чудный савраска, с черными полосками как у тигра на ногах и шее и черным ремнем по спине. Этот год мне давали отличных коней, а в первое путешествие приведут под дженералову байбиче такую клячу, что под нее, кажется, надо подпорки ставить; даже сопровождавший нас сотник Власов, мой наставник и попечитель в первое путешествие, обижался за меня и седлал мне других.
Свежие лошади, прежде чем обойдутся, не идут покойно; то у одного лошадь бьет, то у другого. Мой савраска также не отстал от других. Стали мы подыматься выше и выше, пошли косогорами; мое дамское седло свернулось, только успели подскочить и подхватить вовремя.
Боком ездить по горам почти невозможно; даже Барсуков завещал никогда так не ездить. Повернули вправо от Калджира и поднялись на очень крутой подъем, с него стали взбираться все выше и выше. По мере того, как мы подымались, становилось холодней, а тут еще солнце пряталось за тучи и поднялся ветер.
До того стало холодно, что никакого терпенья не доставало, повода почти нельзя держать, рука коченеет; сверх того нездоровится страшно; по временам до того станет дурно, что уцеплюсь за рожок седла, пригнусь к шее лошади, так и шествую с закрытыми глазами: все менее кружится голова.
Наконец последние силы улетучились, одна только мысль и есть: брошу лошадь и лягу. Нет никаких сил больше идти. А тут как назло кто-то приглашает повернуть лошадь и полюбоваться на Маркакуль, который теперь весь лежит пред нами.
Среди громадного амфитеатра каменистых вершин, глубоко, внизу, синело озеро в зеленой рамке лугов и лесистых гор. Вид, хотя и ровный, действительно был так хорош, что даже и я с озлоблением им полюбовалась. Чем дальше и выше мы поднимались, тем становилось отвратительнее; к холоду присоединилось неприятное ощущение пронизывающей насквозь сырости, когда мы входили в тучу.
Наконец дошло было до того, что я остановила лошадь и на этот раз вслух заявила, что замерзла, что мне дурно, идти больше не могу.
Муж был далеко впереди, Осман завернул меня как тюк в свой тюбентай, и вместе с Ж. поехали около меня; Костя тут же рядом и причитает надо мной:
- «Ты вот всегда такая, простужаешься; я вот бабушке все скажу».
Немножко обогревшись под теплым тюбентаем и отдохнув под таким конвоем от заботы править лошадью, я утешилась мыслью, что всякому мученью есть конец, будет и нашему. Но горы подымались из-за гор, точно кто нарочно их выдвигал.
Наконец-то наконец вышли мы из этого чистилища, пошли хорошенькою долиной и отдохнули на привале. Отсюда дорога шла красивою долиной, часто лесом; тут значительно было теплее, и ветер не леденил, как на горах. Пройдя тридцать верст от Калджира, остановились на ночлег.
Тот же зеленый луг, с шумом бегущая речушка и высокие горы. Больной мне все это казалось отвратительно. Всю ночь я не спала, вероятно, был жар, потому что юрта и особенно Костин ергак, повешенный за рукава на двери, всю ночь принимали образы каких-то чудовищ и никак не давали мне спать, по крайней мере, мне так казалось.
Утром мне стало лучше. Погода стояла великолепная и переход предстоял маленький, всего двадцать пять верст. Дорога все время была прелестная. Видели мы редкость: пихту, обхватившую корнями камень аршина в два в диаметре.
Корни, с двух противоположных сторон, плотно прилегали к камню, и наверху соединялись в один ствол; вид был совершенно такой, будто дерево сидело верхом на камне, и поражало своею оригинальностию. Даже казаки долго вертелись около, судили и удивлялись.
Все нижние ветви пихты покрыты навязанными тряпочками; знак, что телеуты считают это дерево священным. Подъезжая к отряду, я остановилась, чтобы поправить рассыпавшиеся волосы, так что когда подъехала к нашим, отряду уже шел смотр.
Вижу, Осман что-то толкует Полковому, а у того совсем растерянная физиономия. Оказалось, он первый раз в жизни видел ученье большого отряда, и до того перепугался, когда отряд, здороваясь с начальником, гаркнул: - «Здравия желаем», что не знал куда сунуться.
Осман едва успокоил его. Непривлекательно место, где расположен Майтерекский отряд. Юрты расставлены у подножия каменных гор; вправо на довольно далекое расстояние видны те же горы, влево долина замыкается ими же.
По долине бежит шумная речушка, около несколько встрепанных берез. Здесь почти постоянно сильнейшие бураны; оттого и березы имеют такой истерзанный вид. Юрты привязаны на арканах к кольям; иначе их срывает и катит.
Начальник отряда нам показал, откуда недавно спустились к отряду барантачи; когда казаки погнались за ними, они бросились бежать по горам как козы. Одного ранили. Он и теперь лежал в отряде. Мальчик 18 лет; говорит, что его послала на баранту мать.
XIII.
21е августа. Уроч. Такыр, от Майтерекского отряда 35 верст.
Поднявшись из Сентасской долины на небольшую возвышенность, пошли сланцевыми отлогими холмами, поросшими кустарником. Встречали множество дичи. Неудобство настоящего пути то, что нет ни воды, ни ягод, и приходится терпеть довольно мучительную жажду.
Во весь переход, до привала у ключа, и после него, те же каменистые холмы и кустарник. Чрезвычайно пустынный, наводящий тоску вид. Вот, говорят, дойдем до гор, перевалим, и будет Такыр. Смотришь, смотришь вперед; гор нет нигде.
Все тот же пустынный, печальный вид. Наши верблюды, идущие в версте впереди нас, поднялись на отлогую высоту, и скрылись за нею. Верно, это горы и есть, про которые нам говорили. Доходим до этого места, смотрим, а верблюды опять тянутся вереницей впереди, подымутся немного, исчезнут; мы приходим вслед за ними, и опять то же самое.
Какое-то безнадежное чувство начинает невольно охватывать душу; кажется, никогда нам не выйти из этой пустыни. Наконец подошли к довольно высоким скалам и пошли ущельем; ущелье вилось между выступами и вершинами самых причудливых форм, и было очень красиво.
Горных рябчиков целые стада. Пройдя около двух верст ущельем, вышли на долину и остановились у ручья, заросшего камышами.
XIV.
22е августа. Ак-Тюбе, от Такыра 45 верст.
Выступали рано утром и пошли тою же местностью, что и вчера. Ветер свежел все более и более, так, что рвал фуражку с головы. Пройдя часа три, мы подошли к Буконбаю, последним уступам Алтая. Вошли в такое же ущелье, как и вчера, и, хотя еще было рано, остановились на привал, потому что отсюда до Иртыша тем путем, которым решили идти, нет воды.
Буран был такой, что нельзя ставить палатку. На солнце жариться тоже не очень приятно; кругом, кроме кустов шиповника и боярышника, никакой тени. По счастию, нашли две копны сена, и устроились под ними. Через час пошли дальше, и вышли на равнину Иртыша.
Ну и равнина же! Не на чем глазу отдохнуть, все время идешь солонцами. В довершение удовольствия буран такой, что мои канаусовые рукава трещали как трещотки. Чтобы спасти глаза от солонцовой пыли, я завернула голову и лицо шелковым шарфом.
Головы у всех разболелись от бурана, во рту сохнет, а воды нет. Доехали до аула, оттуда привезли кумысу в грязнейшем медном чайнике. Юрты в ауле стояли в самом несчастном виде, бураном оборвало с них войлоки. Между солонцами встречали много дроф и стрепетов.
Ж. и Осман поскакали в сторону посмотреть что-то. Через несколько времени они несутся назад; впереди их, как из лука пущенные стрелы, пригнув рога к спине, летят две сайги, и, к моей большой радости, ушли от охотников. Прошли мимо большого соленого озера.
Ак-Тюбе виден, а добраться до него не можем. Ак-Тюбе - отдельная сопка на левом берегу Иртыша, самая восточная оконечность Семипалатинской области; тут стоит наш пикет; недалеко от него на правой стороне Иртыша, у устья Калджира, расположен китайский пикет.
После семи часов ходу, увидели наконец песчаные бугры и взошли на них. Слава Богу! Черный Иртыш! Конец мучительному переходу! Встретила нас целая толпа киргизов и В-в. Он сказал нам, что утром нельзя было переехать Иртыш, но теперь буран стих и паром готов.
Вошли на паром, составленный из двух долбленных лодок, связанных между собой; на них настланы доски. Иртыш в этом месте имеет сажен до 40 ширины.
Потащили наш паром на арканах вверх против течения; наконец В-в скомандовал:
- «Пускай!»
Аркан отдали, и нас быстро понесло течением; когда стали переваливать, волны вливались в лодки. В-в кричал на гребцов, чтобы работали дружнее; Костя испуганно поглядывал, и очевидно трусил. Перевалили благополучно; забросили арканы, с берега поймали и подтащили нас к берегу.
На берегу стояло целое собрание зайсанского начальства, воинства и киргизов в параде. Смешно сказать: я всю дорогу так привыкла быть в бешмете и чембарах, что не обращала на это никакого внимания, а тут, при виде этого парада, мой костюм и необходимость ехать на мужском седле сильно меня конфузили; но делать было нечего, пешком не идти.
Власов подвел мне свою лошадь, и я, не глядя по сторонам, ногу в стремя, и в седло. У пикета расставлены были большие юрты, около них множество народу. Торжества ради, я переоделась в свое женское татарское парадное платье, и моя глазетовая зеленая шубка, обшитая бобром и галуном, производила эффект.
Между киргизскими старшинами были и старые знакомцы: Магомет султан и султан Казы, знаменитый тем, что он своею тяжестью переломил лошади хребет. Он 14 вершков росту, и, несмотря на это, до того толст, что поражает своим объемом. Одет в красный халат, на носу синие очки.
Прошлого года еще он был бодрый, свежий старик, а теперь стоял, опершись на плечи двух киргизов, и, несмотря на свою богатырскую фигуру, выглядел хилым и жалким. У него прехорошенький сынишко Костиных лет; Казы очень ласкал Костю, говоря, что его сын - Костин тамыр, то есть друг. Здесь мы в первый раз обедали на европейский лад.
XV.
23е августа. Зайсанский пост, от Ак-Тюбе 70 верст.
Поднялись в 5 часов утра, и в 7 тронулись в Ак-Тюбе; мы с Костей - в тарантасе, остальные верхом. Кавалькада составилась прежняя, так как киргизы и старшины ехали с нами. От Ак-Тюбе дорога идет сначала сыпучими песками; потом начинаются арыки, и, несмотря на то, что тарантас поддерживают со всех сторон, его и нас в нем бросает во все стороны.
Наконец я не вытерпела и пересела на лошадь. Местность кругом красивая; равнина оживлена аулами и засеянными полями; арыки разбегаются сеткой по всей равнине. Слева подымаются те же наши старые знакомцы, снежный Мус-Тау и великаны Саур и Сайкан.
Наконец показались Кичкене-Тау, у подножия которых стоит Зайсанский пост; показался Косагач, то есть два дерева, а так как их действительно только два на всей громадной равнине, то они стоят как маяк. У подножия Кичкене-Тау, как игрушечные домики, виднелись строения поста.
На чистенькой площади пред гауптвахтой (она же и временное помещение пристава, его помощника и еще стольких людей, сколько вместить в себя может), стояли солдаты, казаки и вся служащая публика; из окон выглядывали женские лица.
Нам, отвыкшим от подобных зрелищ, все казалось весьма великолепно. Наши комнаты, несмотря на то, что были отведены в таком странном помещении, на будущей гауптвахте, были устроены очень комфортабельно и даже изящно.
Вечером ходили гулять в Джеминийское ущелье; видели по дороге в огороде овощи таких удивительно больших размеров, что хоть на выставку посылать. Климат здесь чрезвычайно здоровый и благодатный, почва плодородная, много воды, и если приложить труд, может быть богатое поселение.
Джеминийское ущелье прехорошенькое. Самый пост принял теперь благоустроенный вид; несколько построек окончено, много оканчивающихся и строющихся. Есть подобие базара. Общество относительно большое; двадцать барынь. Бывают даже вечера.
Я очень люблю вид из Зайсанского поста: с одной стороны он прилегает к горам, с другой - от него идет кажущаяся беспредельной, как море, Зайсанская равнина, покрытая колышущимися как волны солонцами. Вдали, поднятый рефракцией, виднеется Алтай.
26го августа в посту был молебен и парад; потом я крестила у одной барыни. Церковь от поста в 300 верстах, и священник приезжает один раз в год; тут и крестят новорожденных, служат молебны и панихиды. Ребенка крестили в кадушке вместо купели, а дьячка заменял солдатик.
После обеда поехали в Темир-Су, ущелье Саура, где производится рубка леса. До ущелья семнадцать верст хорошей колесной дороги; нам встречались подводы калмыков, везшие провиант темерсуйским рабочим, и вывозившие оттуда бревна и доски.
После отдыха в доме смотрителя работ, примкнутом при входе в ущелье к горе, мы снова сели на лошадей и поехали по ущелью. Работы в ущелье замечательны: на расстоянии двенадцати верст приходится переходить речку раз семь или восемь; быстра она, как и все горные речки, и очень камениста; поэтому для вывозки леса необходимы мосты; один из них пришлось устроить по направлению течения на протяжении 60 сажен.
Этот мост выдержал весеннее водополье, хотя строен и не инженером. Узкое и извилистое ущелье очень красиво; картины в нем беспрестанно меняются. С одной стороны горы покрыты густым лесом громаднейших дерев. Прошлого года мы видели тут рубку леса.
Где-нибудь на вершине солдатики подрубают дерево; вдруг смолкнет стук топоров.
- «Берегись!» - и дерево рухает с таким треском, громом и раскатом по горам, что лошади припадают под нами. Падая, оно разбивается на несколько частей, и пока долетит между деревьями до какого-нибудь места, где наконец остановится, на нем не остается и сучка - все обломает дорогой.
Тут же на месте его окончательно изготовляют и готовым бревном катят вниз в ущелье. Между дровосеками лазят солдатики, как козы по кручам, и собирают мох для конопатки. Внизу около того места, где рубят лес, устроена пильная и несколько землянок, где живут солдаты.
В этом ущелье, как и во всех ущельях, какие мы видели, богатая растительность: дикие розы, боярышник, смородина растут в изобилии. Пройдя до того места, где оканчивается разработанная дорога, мы вернулись к домику смотрителя, отдохнули на балконе и отужинали.
Солдатики, собравшись в кружок, пели; ими дерижировал пожилой бравый усач, очевидно, любитель и знаток; одну песню они пели особенно прелестно, да и напев великолепный; какой-то юный солдатик пел, подыгрывал на дудке и плясал; наконец и сам солидный запевало не выдержал и пустился в пляс.
На возвратном пути мы любовались красавицей лошадкой, на которой ехал Т.; она из того же табуна султана Казы и от той же матери, что и мой знаменитый Буран, но его лошадь только что приведена, чрезвычайно горяча и беспрестанно срывает с иноходи, мой же Буран идет иноходью так, что за ним идут карьером.
XVI.
28е августа. Чоган-Обо, от Зайсанского поста 65 верст.
На другой день с раннего утра начались приготовления к поездке на Чоган-Обо, где, как говорят киргизы, лежит еще отряд. Чоган-Обо отстоит от Зайсанского поста на 65 верст, которые надо сделать в один переход. Про Чоган-Обо говорили ужасы: будто бы там такой холод, так часты проливные дожди по целым неделям, что, слушая, становилось жутко.
Нас с сыном взяли с уговором, чтобы мы ни на что не жаловались и не мешали, если придется сделать движение к таргоутам, недавно снова отбарантовавшим у казаков лошадей. Дело в том, что уже несколько лет калмыцкие старшины (кегени) Матен, Уван и Ареден, состоящие в китайской службе генералами, делают нам всевозможные гадости.
Так, в 1867 году Цогань-кегень (Цаган-гэгэн. - rus_turk.) вырезал и разграбил байджигитов, спокойно кочевавших в тылу русского отряда. Впрочем, тут больше всего винят Щ., который вместо того, чтобы вести свой отряд на выручку несчастных, которых резали на Джоты-Арале, пошел наперерез им к Черному Иртышу.
Перерезали тогда до 400 человек. В нападении 1869 года козыл-аяков на Зайсанский пост, говорят, кегени опять принимали участие. Но самое последнее, только что случившееся происшествие, было нападение на казаков, сопровождавших одного офицера, посланного на съемку в Матеновском проходе.
Казаки эти только что поступили на службу, неопытны и не умеют управляться с оружием, а таргоуты народ весьма наметанный, и у них отличные кавказские винтовки. Во время этого события на Зайсане был в гостях Хебе-амбань, губернатор Кубдинской провинции; ему сказали, что в числе барантачей видели Манчука, переводчика Матена.
Губернатор написал от себя приказ Матену немедленно возвратить отбарантованных лошадей и выехать в Зайсанский пост для объяснений. Хебе-амбань заявлял, что Матен не осмелится его ослушаться, что за это он ответит головой.
Но, вероятно, Матен или не дорожит своею головой, или о двух головах: он ни лошадей не возвратил, ни для объяснений не выехал. Тогда, чтобы прекратить баранты, решено было непременно настоять, чтобы Матен исполнил приказания Хебе-амбаня.
Вышли мы из Зайсанского поста в 11 часов утра; нас провожала одна барыня, очень хорошенькая, в амазонке, но ездившая совершенно необычайно: она держит повод кончиками двух пальцев правой руки, будто бабочку за крылышки, вследствие чего лошадь творит с ней что хочет, и она только криками и взвизгиванием протестует против ее проказ.
Взобравшись на Кичкене-Тау, мы стали пробовать новых лошадей.
Слышу, Костя мой вопит:
- «Мама! Ай! Мама!»
Оказывается, его лошадь бросилась за нашими, он не может ее сдержать, и взывает ко мне о помощи, а я, при всем желании, не имею довольно силы, чтобы сразу остановить мою разгорячившуюся лошадь; наконец он сам догадался, направил на гору.
Ему кто-то подсказал сначала, что лошадь его бойка и его собьет. Мальчишка мой и струсил; идет шагом да и только. Но через час он успокоился, а через два управлялся своею лошадью отлично. Шли мы теми же местами, где ходили прошлого года на Уйдоне, смотреть залежи алебастра.
Теперь это место осталось далеко вправо. Часа четыре мы шли равниной и небольшими подъемами и спусками. Жарко было страшно. Наконец подошли к Уйдоне: речка славная, вода прозрачная, холодная; началось водопитие: пили сами, поили лошадей, снова принимались за питье.
Пройдя Уйдоне, скоро вошли в ущелье; тут сразу стало свежее, так как ветер был в лицо. Началась охота. Кругом по скалам раздавались крики горных рябчиков и беспрестанно встречались их целые стада. Пройдя 35 верст, остановились на привал у ключа.
Все дно ключа, да и вообще все ущелье в этом месте, покрыто яшмой: и красная, и серая и зеленая. Отдохнув с час, мы тронулись далее. Местами голые, красноватые скалистые щеки ущелья принимали оригинальные виды: то очутимся мы в круглом зале, и кажется, из него выхода нет, а там проводник приведет к узеньким, только для двух лошадей, скалистым воротам; войдем в них, высокие каменные стены, близко сойдясь, образовали коридор, а там опять небольшой подъем или спуск и снова зеленое ущелье, поросшее кустарником.
Выйдя из ущелья, мы увидели громадную Чиликтинскую долину. Слева замыкал ее хребет Саура; северную и южную окраины составляют Манрах и Тарбагатай, сходящиеся между собою и образующие проход Иссык. В юго-восточном конце долины, при соединений Сауры с Тарбагатаем, горные проходы сошлись веером; два из них, Гасан-Обо и Кергентас, ведут к юго-востоку в долину Кабук; третий, Баймурзинский, к югу в долину Емиля; здесь-то, в самом юго-восточном углу всей Семипалатинской области, на китайской границе, обхватывающей Чиликтинскую долину с востока и юга, и стоит отряд, охраняющий проходы.
Отправились мы долиной; все время шли крупною рысью или вскачь; вот, думаем, сейчас на месте, а Чеган-Обо все нет. Выехали киргизы Табак и Батагай со свитами, поздоровались, полюбезничали на ходу.
Спрашиваем:
- «Далеко ли до Чеган-Обо?»
- «Близко, - говорят.
- Вот как до зимовок дойдешь, останется десять верст».
- «А до зимовок сколько?»
- «Недалеко - час ходу».
В сумме это составляло еще весьма изрядный кончик. Мы подошли к отряду, когда совсем уже стемнело; около девяти часов, только мы разместились в юрте и подали нам чай, в отряде проиграли зорю. Молитву пропели отлично; хор большой и славно поют.
На Чеган-Обо стоит сухаревская сотня, ходившая с нами прошлого года, и мы знали многих из казаков. По отзыву всех, это лихая сотня, да и старик дедка Сухарев молодец. На другое утро нас рано подняли и велели собираться в путь.
На рассвете, полусотня казаков, под командой В-ва, была послана за пятьдесят верст, к таргаутскому селению, где живет Матен, с приглашением выехать к русскому генералу для переговоров. Другой отряд двинется с артиллерией и станет в двадцати пяти верстах от селения ждать известий от В-ва.
Если наших хорошо примут, и Матен поедет с ними, то дождутся на месте. Если же заупрямится или подымет скандал, отряд пойдет к селению. Нам с Костей определили, в случае перестрелки, отправляться к артиллерии и пребывать около орудий.
Выступление из лагеря было весьма эффектно: два орудия с отличною запряжкой подобранных под масть вороных славных коней, прислуга на таких же конях, за ними сотня казаков. Наша кавалькада и киргизы шли то впереди, то равнялись с ними.
Погода была отличная; зеленая Кергентасская долина, облитая ярким солнечным светом, смотрела свежо и весело.
Скомандовали:
- «Песенники вперед!»
И наши старые знакомцы, сухаревцы, бывшие в Туркестане при генерале Черняеве, грянули:
Сырдарьинцы молодцы по степи гуляют,
А коканцы дураки крепости бросают!
То-то, право, дураки: крепости бросают!
Наш начальник был герой -
Двинул войско по Дарье;
За ним славный русский строй,
Все готовы быть в огне!
Наш начальник был Черняев,
Покровитель всем войскам;
Не видать нам с ним печали,
Только песенки гремят! и т. д.
Трудно передать, с какою любовью вспоминают генерала Черняева все, кто служил при нем. Артиллерия шла шагом. Я прибавила ходу, и с двумя киргизами ушла вперед. Встретила волка, который очень мирно перебегал долину. Киргизы погнались за ним, но ушел.
Пройдя двадцать пять верст, остановились в прехорошенькой долинке между высокими горами. Орудия стали на позицию, кругом расположился отряд. Сухарев сам повел трех казаков, чтобы поставить пикет, провел их до конца долины и вскарабкался на самую высокую вершину, которая оканчивалась чуть не остроконечно.
Слезши с лошади, он провел казаков и поставил на самую верхушку. После того Сухарев стал спускаться; даже муж приговаривал, глядя на него: «Ой, дедка, хоть с лошади бы сошел! Сломишь себе шею!» Но дедка даром что сед, да удал.
Он благополучно сошел и доложил начальству, что с вершины на далекое расстояние видны дороги. В ожидании обеда мы пошли гулять на горы. Взобравшись довольно высоко, сели отдохнуть и любоваться хорошеньким видом окрестных гор, долины и расположенного в ней лагеря.
У нас обедал начальник взвода, а дедка Сухарев постился (постовал, как говорят у нас) и отказался от обеда. После обеда долго сидели, читали газеты и рассуждали о войне Франции с Пруссией. Я от всей моей души желала и желаю, чтоб они изобразили битву тех двух знаменитых собак, которые до того грызлись, что только хвостики остались.
От Власова все не было известий, и мы легли спать, не дождавшись ничего… Оказалась небольшая, но весьма чувствительная неприятность; вся юрта была усеяна маленькими черными пауками; они бегали по коврам, по кроватям, по бокам юрты, падали сверху ее, - не было от них спасенья.
Но как все это ни было противно, а усталость взяла свое. Утром в отряд наехало человек тридцать солонов, под предводительством солонских офицеров; у одного был белый шарик, значит, наш хорунжий, у другого белый матовый - капитан, а у третьего синий - это майор.
Чиновник с синим шариком важничал непомерно; напротив того, человечек с прозрачным шариком и стариковскою, женоподобною физиономией был весьма мягок и любезен. Приехавшие с ними солоны народ рослый, стройный и красивый; черты лица их правильны, глаза не подтянуты кверху и скулы не выдаются; ноги и руки замечательно малы и стройны.
Обуты в башмаки с совершенно круглыми носками, заканчивающиеся острым шнипом, на толстой бумажной подошве; в широких, наподобие турецких, шароварах и курмах, то есть широких куртках или кофтах с очень широкими прямыми рукавами; все это из серой, точно небеленый холст, материи.
Головы до половины выбриты, а с половины отпущены очень длинные волосы, заплетенные в косу; на головах поярковые шляпы с загнутыми вверх, вроде кокошника, полями, и в одном ухе большая, спускающаяся до плеча серьга. Оружие - лук и колчан, который они носят не на спине, а лук висит с одного бока, колчан с другого.
Чрез переводчика солонам было объявлено, что их задержат ненадолго. Они потолковали, и по необходимости согласились. Солонских чиновников пригласили пить чай. Синий и белый матовый шарики вели себя чрезвычайно чванно и беспрестанно сосали свои трубочки.
Отобедали, а все от В-ва нет известий. Наконец часа в два дали знать с пикета, что кто-то скачет по дороге. Прискакал Ж., с ним три казака, сын Матена и его знаменитый переводчик, таргаутский лама Манчук. Сын Матена, малый лет семнадцати, походил более всего на глупорожденную деревенскую девку.
Манчук смотрел волком. Ж. рассказал, что утром рано они пробрались лесом к селенью, застали Матена в его доме и сообщили, что приехали от русского генерала. Матен принял их в передней комнате, нечто вроде нашей прихожей, и едва удостоил говорить, отвечал, что к русскому генералу не поедет, так как служит в китайской службе и сам генерал.
Сказав это, вскочил и ушел. Тогда наши послали сказать, что лучше бы он не ломался, а ехал, что генерал стоит недалеко и с войском. Тогда Матен предложил отправить для переговоров своего сына и Манчука. Сын Матена подошел с приветствиями от отца и поднес какую-то материю.
Материю не приняли, сказав, что приглашали Матена для переговоров, а не мальчишку, а так как Матен сам нейдет, то остается его привести. Манчука и сына Матена приказано взять под конвой, и отряду готовиться к выступлению.
У солонов отогнали лошадей на другую сторону лагеря, сказав, чтобы до нашего возвращения никто из них не смел трогаться с места. С ними оставили двадцать пять человек казаков, наши юрты и вещи. Солонских чиновников пригласили ехать с нами.
Ж. проскакал 25 верст от селения Матена карьером, у него не было почти голосу; но выпил рюмку хересу, сел на свежую лошадь и в сопровождении двух казаков снова поскакал к В-ву с известием, что отряд идет. Ж. рассказывал, что В-в и Б. сидят в юрте с револьверами наготове.
Тронулись и мы. Солонские чиновники важничали до невозможности, и гордо выехали пред отряд, стараясь держаться впереди русских начальников. Пришлось попросить их держаться сзади и не сметь выскакивать вперед. Они тотчас послушались, но франт с синим шариком сохранял надменный и иронический вид.
Манчука и сына Матена вели в средине отряда на чумбурах. Чрезвычайно красиво идет артиллерия по горам. Как лихо кони выносят орудия в гору, как искусно спускают. Прислуга поддерживает орудие на лямках, могучие дышловые, сдерживая катящееся с крутого спуска орудие, совсем садятся на задние ноги и сползают, упираясь передними ногами, вытянутыми как струнки.
Иногда которая-нибудь заблажит немножко, замотает головой, прося повода. Тут же ей ездовой, в виде нравоученья, нагайкой по ушам, и снова умный конь напрягает все мускулы — и спускает молодцом. Несмотря на то, что два перевала были довольно высокие и крутые, и один еще по косогору, орудия спустились отлично.
После одной остановки, когда скомандовали
- «Садись!», синий шарик тотчас же передразнил: «Садись!», самодовольно и презрительно усмехаясь. Спустившись со второго перевала, мы довольно скоро вышли из ущелья на долину Кобука, перешли два серных ключа, дававших себе знать своим запахом, и через час ходу подошли к селенью, раскинутому на довольно большом пространстве; все домишки группировались около большой кумирни.
Всего мазанок можно было насчитать до 80. За селеньем и около него, но далеко от нас, копошились люди. Вл-в и Ж. выехали навстречу, с докладом, что Матен уехал из селения в свою кочевку. Тогда В-ву было приказано ехать вперед с шестью казаками и остановить Матена; артиллерия с частью казаков стала на позиции, чтобы в случае нужды держать все селение под огнем, а остальной отряд двинулся вперед.
Кумирня большая и очень красивая. Четыреугольное каменное выбеленное здание. В стенах ни окна и ни малейшего отверстия, кроме входа с одной стороны; из-за первой стены видна вторая, а из-за нее четыреугольная башня с крышей известной многоугольной остроконечной формы с загнутыми вверх краями; по углам драконы и колокольчики, из которых тоже висят драконы.
Подле кумирни на двух высоких шестах огромные флаги. Колокольчики качались от ветру и перезванивали. Недалеко от кумирни стояло еще маленькое каменное здание, вроде нашей часовни. Во всем селенье не было видно ни души.
Нам указали мимоходом дом Матена - такая же мазанка, как и остальные, только окружена высоким частоколом как клеткой. Пройдя селенье, пошли на полных рысях, прошли верст восемь, кругом по холмам показываются всадники, а наших все нет.
Прошли и все десять верст, наконец видим: катит В-в и сообщает, что Матен сейчас выезжает навстречу; он сидел окруженный ламами, в то время как В-в налетел на него врасплох с своими казаками и стал держать ему такую речь:
- «Поезжай лучше, Матен, сам навстречу генералу, он здесь со всем войском, иначе худо будет».
Поехавший солонский офицер с женоподобною физиономией, тоже стал советовать ехать встречать. Матен потолковал с ламами, засуетился, стал одеваться и просил В-ва ехать предупредить, что он сейчас будет.
- «Надо же мне, - говорит, - войско мое собрать. Генерал ваш идет с войском, приличие требует, чтоб и я выехал так же».
Мы остановились. Через несколько времени действительно показались всадники, подъехали несколько ближе, и мы могли разглядеть Матена. Толстейшая фигура в черной куртке и китайской генеральской шапке, чрево его подпиралось лукой седла.
За ним человек 50 всадников с винтовками за плечами. Шли они шагом. Не дойдя нескольких шагов до нас, остановились, какое-то чучело с обнаженною головой спешилось, подобострастно согнувшись крючком, подошел к лошади Матена, взял ее под усцы и повел к нам.
В-в объяснял, что китайский этикет требует, чтобы здоровались сойдя с лошадей. Но наше начальство осталось на лошадях, говоря, что пусть Матен подчиняется нашему этикету. Матен, видя, что наши не сходят с лошадей, с лошади же подал руку, говоря приветствие.
Солонский старикашка переводил на китайский язык, В-в на русский. Видно было, что Матен совершенно хорошо понимает, да, вероятно, и знает китайский язык, но не хочет говорить не на своем природном языке, важности ради.
Матен, разумеется, очень радовался, что видит дорогого гостя, и надеялся, что он прибыл здоров и благополучно. Ему ответили сожалением, что русским пришлось идти так далеко ему навстречу. Пригласили Матена идти с собой, говоря, что находят неприличным вести переговоры на чужой земле.
Матен согласился, и оба амбаня, китайский и русский, направились со своими воинами обратно к селенью. Дорогой Ж. сказал нам, что Б. входил в кумирню, и в ней преинтересные бурханы (идолы). Спросив разрешение ехать вперед и до прихода отряда осмотреть кумирню, мы взяли восемь человек казаков и поскакали.
Е., Ж. и я почти всю дорогу шли вскачь, местами карьером, чтобы только засветло попасть в кумирню; при въезде в селенье, я зазевалась на что-то, недоглядела широкого арыка (канавы); лошадь, приготовляясь к прыжку, неожиданно, со всего скоку, взвилась, я совсем было опрокинулась, и опять каким-то чудом усидела.
Помню, что ко мне подскакал казак, но он ли меня удержал и мог ли удержать, не знаю, потому что в ту же секунду перемахнули арык и благополучно продолжали скакать дальше. В окнах мазанок, в селенье, огоньки, и копошится народ.
Подскакав к кумирне, мы сошли с лошадей и вошли совершенно будто на паперть наших старинных церквей. Крыша паперти подперта деревянными четыреугольными колоннами, пестро раскрашенными; три входные большие двустворчатые двери.
Мы подошли к средней, оказалась заперта, только в щелку виден огонек; постучали, позвенели — никто не откликается; наконец кто-то из казаков толкнул замок шашкой, дверь отворилась. Мы столпились в дверях; общий вид напоминал католическую церковь; большое здание, разделенное четырьмя рядами колонн, между средними колоннами широкий проход к жертвенному столику, на нем теплится лампада, свет ее и освещал кумирню.
Мы хотели войти, но Ж. посоветовал прежде осмотреться хорошенько — кто их знает! В это время вышел из-за колонн какой-то таргаут и подошел к нам. Я вручила ему серебряный двугривенный в руку и толкую: «Акча», то есть по-киргизски деньги.
Он оскалил с некоторою приятностью зубы и спросил:
- «Бурхан?»
Я ему жестами показывала, что не бурхану, а ему. Он пригласил нас идти за ним. Из нашего конвоя два казака остались у лошадей, двое у дверей, а остальные четыре вошли с нами. Мы прямо пошли к жертвенному столику; дорогой заметили у каждой колонны низенькие, вершка в два, широкие, четыреугольные скамьи; на них сидят ламы во время богослужения.
Между последними колоннами, за жертвенным столиком висит шелковый занавес. Столик одет материей, как наши престолы, на нем дюжины две одинаковых чашечек с какой-то жидкостью, посредине их стоит высокая бронзовая или медная подножка и в нее вставлен бубенчик главного ламы; пред ним теплилась лампада, по бокам столика стояли вазы с какой-то пушистою зеленью.
Проводник наш скрылся за занавес, а я воспользуюсь этой паузой, чтоб описать богослужение, которое прежде видел в этой самой кумирне один офицер. Во время богослужения ламы садятся около колонн на коврах, кошмах или скамьях, играют на инструментах, поют или читают.
Инструменты у них: огромная длинная труба, такая, что надо поддерживать подставкой, медные тарелки, бубны, барабан и т. д.; одновременно с музыкой некоторые из лам поют. Во время служения занавес за жертвенным столиком открывается, и за ним в углублении за колоннами, под главным бурханом, сидит старший лама в красной одежде; и как все ламы, с наголо выбритою головой.
В руках у него колокольчик и особого рода бубенчик вроде побрякушки, он ими подает знак другим ламам, когда начинать петь и играть, также когда кончать, во время чтения тоже перезванивают; между сидящими ламами расхаживает, не знаю как его определить, вроде диакона, с красным плащом на плечах и такой же перевязью, как и у наших диаконов через плечо; он наливает ламам в чашки кумыс и окуривает их длинной курящейся благовонной бумагой.
Народ нисколько не участвует в молитвах, его дело приносить только жертвы на столик, а там, по величине и ценности жертвы, ламы за него и совершат молитвы. Если кто положит в чашечку пшена, ламы воспевают пшено, божество, родившее пшено, и жертвователя.
Чем богаче жертва, тем продолжительнее молитвы. Проводник наш вернулся за-из занавеса, показывая пустую руку и говоря: «Бурхан», мы поняли, что он положил деньги бурхану. Я дала ему еще. Он взял с жертвенного столика лампаду и пригласил нас войти за занавес; за занавесом стол, посредине у стены стеклянный шкаф с большими цельными стеклами, разделенный на три отделения; в среднем была женская сидячая статуя в аршин величиной, вся вызолоченная, только глаза черные с белыми белками и белые зубы, видные между немного открытыми губами; лицо было идеально хорошо, с правильными, тонкими, изящными чертами и прекрасным выражением.
На голове ее надета большая бирюзовая корона; одна рука поднята со сложенными перстами: указательный и большой сложены вместе. В боковых отделениях шкафа, также вызолоченные женские фигуры, тоже сидящие, меньших размеров, без короны и далеко не так изящны и красивы, как средняя. У одной на поднятых руках надеты жемчужные четки.
Около стеклянного шкафа, стоящего на довольно высоком шкафчике или столике, покрытом материей, наставлен целый ряд медных бурханчиков; замечательно, что Б. водили по кумирне слева направо, от главного бурхана, точно так же повели теперь и нас.
К нам подошли еще несколько лам, с головами в виде билиардных шаров и с красными плащами на плечах, которыми они иногда прикрывали и голову. Один из них, высокий старик, стал нам толковать, тыча самым бесцеремонным образом лампадой бурханам в физиономии.
К сожалению, с нами не было переводчика, и мы ничего не могли понять из его слов. От шкафа или киота вдоль стены кумирни, стояли и сидели бурханы в человеческий рост, а некоторые и бо́льших размеров; сначала три женские фигуры, деревянные или из папье-маше, раскрашенные красками и одетые в шелковые платья. У одной была золотая корона на голове, другая держала корону в руках.
К углу сидело такое страшило, что мы чуть не ахнули, а ламы, видя это, хохотали, тыкая страшилищу лампадой в лицо. Бурхан этот выкрашен черною краской, только на ужасном лице резко выдаются белки глаз, подведенные красною краской, и толстые красные губы с оскаленными зубами.
Он сидел скрестив ноги калачом и подняв свои четыре или шесть рук, не помню, кверху.
От угла по продольной стене стояли какие-то богатыри; один, с громадным мечом, в пестрой одежде и с цветными перьями на голове, смотрел так свирепо, выпучив бычачьи глаза и надув щеки, что мы невольно засмеялись и вспомнили австрийскую команду:
- «Надуй щеки, прими грозный вид!»
Милее всего, что ламы хохотали вместе с нами. После страшных и воинственных богов пошли более мирные, один из них, вероятно, бог музыки, с развеселым лицом, держал в руке инструмент вроде балалайки. Перейдя через кумирню к противоположной стене, первый бурхан, бросившийся нам в глаза, была опять сидящая женская фигура в человеческий рост, выкрашенная черною краской; только губы, глаза и зубы были натурального цвета; в руке она держала опахало из павлиньих перьев и из-за него улыбалась.
Более кокетливой, вызывающей улыбки и позы трудно вообразить. Остальных бурханов мы осмотрели вскользь чуть не бегом, так как Ж. беспрестанно твердил:
- «Скорей, скорей! пора. Отряд пройдет; нам тут одним оставаться нездорово».
Жаль было уйти не осмотрев всего, но делать нечего, торопили так, что я только успела заметить сидящего великана с маленьким бурханишкой на руке. Слева от угла до среднего шкафа с главным бурханом, вся стена сверху донизу набита тючками.
Вышли мы из кумирни и стали садиться на лошадей. Лам очень занимало мое дамское седло с тремя рожками - и хоть на этот раз я была в бешмете и чембарах и сидела по-мужски, но чтоб удовлетворить их любопытству, села боком.
Должно быть, это им показалось очень занимательно, потому что они осматривали седло и жарко что-то толковали между собою. Старик взял в руки и мою высокую прюнелевую ботинку и очень внимательно рассматривал. Мы раскланялись с ними и отправились.
Отряд действительно вышел уже из селения. По берегу речки шла какая-то кутерьма; в полутьме нам видно только было, что верховые таргауты снуют туда и сюда, как рой потревоженных пчел. Ж. и Е. сказали, что мешкать нам нечего; я взяла сына на чумбур, чтобы не сбился, щелкнули по лошадям и проскакали между этою сумятицей к нашим.
Оказалось, что в это время, по приказанию начальства, остановившегося для отдыха и первых переговоров с Матеном, отгоняли за нашу цепь всех вооруженных. Войдя в юрту, мы увидели при свете свечи, вставленной в воткнутый в землю штык, Матена, сидящего на ковре рядом с генералом.
С одной стороны наши офицеры А. и Б., с другой - солонские; посредине юрты, поджав ноги, сидел переводчик. Мы сели с нашими, и я с любопытством рассматривала Матена. Полное, жирное, одутловатое лицо, с широкими скулами и острым подбородком; больше карие глаза, длинный, острый, прямой нос, свесившийся над губой, рот грошиком и никаких признаков бороды.
Руки белые, как у какого-нибудь модного проповедника. Разговаривая, Матен сидел совершенно неподвижно, только быстро обводил своими большими, не то испуганными, не то удивленными глазами всех нас, и снова уставлял их на генерала, особенно когда он говорил что-нибудь; в руках он вертел какую-то травку и нервно подергивал и щипал ее.
Настоящие переговоры шли о том, чтобы Матен непременно ехал на русскую землю, как ему и приказано было Хебе-амбанем, так как неприлично для русского генерала приходить переговариваться к нему. Матен упирался и не хотел ехать, говоря, что он болен, и теперь даже принимает лекарство, и что единственно болезнь помешала ему приехать на Зайсан.
Особенно говорил солонский чиновник с синим шариком, так важничавший и ломавшийся с самого отправления нашего к Матену. Он так и тарантил, что Матен не может ехать, что не все ли равно - и здесь можно говорить и т. д. Два раза передавали этому франту, чтоб он молчал и не мешался, но он не унимался.
Наконец начальство рассердилось и крикнуло ему:
- «Джур!», то есть по-киргизски «Вон! ступай!» и показало франту на дверь.
Тот замолчал, но сидел презрительно посмеиваясь. Тогда ему так крикнули «Джур» с такою свирепою физиономией, что франт быстро вскочил и торопливо, но все же по возможности стараясь сохранить свое достоинство, вышел.
Матен услыхал, как крикнуло начальство, совсем оторопел и, бессмысленно уставив на него глаза, мял в дрожащих руках травинку. Подали чай, Матен отказался, говоря, что болен и ничего не пьет. Переводчик В-в (П. С. Власов. - rus_turk.), долго живший в Китае и хорошо знающий их нравы, объяснил, что Матен боится, чтоб его не отравили.
Велели ему передать, что сына его отпустили, а что он через четверть часа пойдет с нами. Матен благодарил за сына, но уверял, что у него теплого платья нет, а теперь холодно. Предложили ему послать за платьем одного из оставленных при нем таргаутов.
Он опять за то же: болен и принимает лекарство. Переводчик и солонский чиновник со старушечьею физиономией убеждали его и заверяли, что ему никакого зла не сделают, что он гостем будет. Он отвечал, что просит русского генерала остаться здесь ночевать, что завтра приведут отбарантованных лошадей, и чтобы русские ничего не боялись.
Ему ответили, чтобы на наш счет он успокоился, что русские знают, что в данном случае все его селенье подымут на копье, чтоб он не ломался и ехал; а что если дело из-за теплого платья, ему дадут шубу. С этим словом было приказано готовиться к отъезду, и мы вышли из юрты.
Совсем стемнело, холодный ветер так и рвал. Пока мы путались и садились на лошадей около дверей юрты, вышел из юрты Матен, окруженный переводчиками, солонскими чиновниками и Батобаем; его уговаривают сесть на лошадь, он упирается, наконец сел на землю как заупрямившийся ребенок.
Сидит на земле в своей генеральской шапке, но уже без прежней генеральской важности, а окружающие продолжают его уговаривать. Костя так и умирает со смеху.
Наконец послышалась команда:
- «Садись!»
Тогда даже долготерпеливый переводчик В-в - и тот порешил:
- «Коли не хочет с честью - надо с бесчестьем».
Подскочили казаки, спешили, один удалец поднял генерала с земли под мышки, и в ту же минуту его подхватили и как куль ввалили на седло. В-в, видя, что Матен натягивает поводья и проворно шарит рукой около себя, догадался, и отнял у него нож.
Тогда Матен принялся шпорить свою лошадь, надеясь пробиться, но его дали казаку на чумбур, окружили и двинулись. Темно было так, что только в нескольких шагах видно пред собой. Отряд разделили. Матен и Манчук, оба на чумбурах, шли посредине.
Таргауты так и сновали около нас и теснили. Матен стал просить, нельзя ли ему послать к своим, что ему необходимо им передать, чтоб они не беспокоились. Ему позволили, предварив, что если на отряды сделают нападение, или будут стрелять, первая слетит его, Матенова, голова.
Он тотчас затараторил что-то, и послал сопровождавшего его таргаута к своим, вероятно, с приказанием не шалить и не подвергать его драгоценную голову опасности. Таргауты продолжали сновать кругом и особенно теснились около нашей кучки, где был Матен.
Им велели передать, чтоб они отъезжали подальше, но так как они продолжали все так же, им передали, что будут стрелять, а пока стали отгонять нагайками налезавших слишком близко. У меня одна была забота, Костя; даже и в темноте его, одного маленького, из всего отряда, и притом на белой лошади, легко было отличить, и какому-нибудь таргауту могло придти в голову сарканить его и утащить в горы взамен Матена.
Возьму его за чумбур, мальчик пищит и обижается, а один - то в сторону отобьется, то отстанет: от усталости и холода совсем раскис. Наконец буран разогнал тучи, и луна осветила нашу дорогу. Матен прихотничал как женщина; то позови ему Батабая, и чтобы Батабай ехал рядом с ним; пошлют ему Батабая - нельзя ли остановиться у ручья налиться воды и т. д.
Часа в два ночи мы пришли к нашим юртам. Матена поместили в юрту к офицерам, вынеся оттуда предварительно все оружие, кроме револьвера, лежащего у С. под подушкой. У таргаутов, приехавших с Матеном, тоже отобрали оружие, и весь этот арсенал положили в нашу юрту.
Вооружение таргаутов, как говорили знатоки, отличное. На другое утро начались переговоры. Матену говорили, что он делает дурно, позволяя своим грабить русских. Тот сначала упорно отрицал и уверял, что грабят наших кызаи.
Наконец он согласился на требование, что за всякий грабеж он будет отвечать, с оговоркой только, что кроме тех случаев, которые могут быть в соседних округах Увана и Аредена, и что немедленно приведут отбарантованных лошадей. Матен продолжал поститься, то есть из страху ничего не брал в рот и все перебирал свои четки.
Наконец привели лошадей; тогда Табак, Батабай и солонский чиновник - старушонка стали пред нашим начальством и начали слезное прошение, отпустить Матена, говоря, что он теперь уже на русской земле, лошадей отдал, обещал, что больше грабить не будет, и что если Матена по их просьбе отпустят, он их обижать не будет; а иначе, только отряд уйдет в Чеган-Обо, он станет им делать всевозможные притеснения, а кочевки их в соседстве. Посоветовались наши и решили отпустить Матена; но Манчука как уличенного в том, что принимал лично участие в грабеже против нас, взять с собой.
Когда Матену объявили, что его не поведут дальше, он так обрадовался, так униженно кланялся и говорил такие рабские речи, что если б ему поставить условием получить сто нагаек пред отправлением, нет никакого сомнения, он принял бы это условие, не смущаясь нимало своей генеральской шапки.
Приняли лошадей, простились с Матеном, то есть начальство сказало ему на прощанье - чтоб он помнил, что даром ему грабежи не пройдут, и выступили. Скверная погода, сильный холодный ветер и по временам дождь. Через несколько времени нас нагнали человек 50 киргизов, вооруженных назиями и айбалтами.
Айбалты теперь довольно известны, так как все бывшие в Туркестанской области вывозили их оттуда, а назия это длинное, тонкое древко, на конце которого вершков в пять железное острие; в том месте, где острие вделано в древко, большая кисть, сделанная затем, чтобы назия дальше в человека не входила, и, ударив, лезвие можно было выдернуть из раны.
Ландверы эти выехали затем, чтобы помочь нам в случае, если бы переговоры с Матеном кончились не миролюбиво. На возвратном пути, как и обыкновенно, казаки пели; есть у них и про бараньего героя песня. Вообще, в песнях своих казаки очень верно и метко выражают свои чувства.
Например, есть у них одна, в которой они воспевают как они ходили на Балхом, переморили там своих лошадей, натерпелись всевозможных нужд, но это все бы ничего, главное им обидно, по словам песни, что служили они за это время:
И не ведоша кому,
То не Богу, не царю,
…- ву подлецу!
Слыша, как казаки поют, и киргизов взяло соревнование; два молодых киргиза из вновь прибывшего воинства поравнялись с нами; и то глядя нам в глаза, то уставясь друг на друга, затянули тоже песню; начинает один речитативом, другой подхватывает, глядя пристально ему в рот, и каждый куплет оканчивают гаммой из трех нот и потом октавой вверх, протягивая ее очень долго и во все горло.
Переводчик переводил нам их пение; они импровизовали, что вот как хорошо мы идем вместе, потом различные пожелания дженаралу и его байбиче и т. д. и т. д. На Чеган-Обо погода поднялась такая, что пришлось привязывать юрты арканами к кольям, чтоб их не сорвало.
Переночевав, на другое утро пошли Чиликтинской долиной к Зайсану. В ущелье Кичкене-Тау набрали образчиков яшмы. Охотились на рябчиков, разумеется, кроме меня, и пришли на то место Уйдоне, где алебастровые залежи, и подошли к реке.
Место прелестное, - на берегу тополевая роща и всевозможный кустарник, недалеко отсюда начинают сходиться к берегам Уйдоне темно-красные скалы; подымаются все выше и выше и наконец сходятся совсем к речке, так что идешь или, скорей, лепишься узенькой закраиной, - иногда приходится переходить на другую сторону; и окончательно закраина совсем пропадает, и речка, сжатая в скалах, скрывается в воротах, образовавшихся из подошедших аршина на четыре друг к другу скалистых стен, сажен в полтораста вышиной.
Из Зайсанского поста мы выехали обратно 4го сентября. Наши провожатые едва-едва достали себе тележку, чтобы добраться до Кокпектов, и то сняв передок из-под чужого экипажа. Мы поехали в тарантасе. В настоящее время дорога от Зайсана до Кокпектов далеко не представляет прежних неудобств.
В прошлом году на этих трехстах верстах был всего один пикет; лошадей хотя, бывало, выставлялось и много на назначенных местах, но лошади такого свойства, что каждую тащит к экипажу несколько человек, повиснув у нее на холке и ушах; пока хомут наденут, выходит целое представление.
Готово; запряжены. Коренная стоит, расставив передние ноги и упираясь изо всех сил; пристяжные в хомутах, припряженные, стоят мордами к экипажу, на каждой лошади висят киргизы;
- «Айда!» - народ отскакивает в стороны, лошади бросаются как шальные, - коренная и передние уносные несут, пристяжные, увлекаемые ими, сами попадают в постромки, но бьют и рвут в стороны, с боков скачут верховые и гиком и нагайками стараются поселить в ретивых, но необузданных конях единодушие, - и все это мчится, благо степь гладка и широка, - пока кони не изморятся.
Случалось, впрочем, немало и происшествий. В одну прошлую осень разбили трех высокопоставленных лиц. Одному, опрокинув его вместе с тарантасом, отдавили ногу, - другому разбили тарантас вдребезги, разбили начальника и так измололи сопровождавшего его казака, что едва привели в чувство; третий, расставшись внезапно и непроизвольно с своим тарантасом, несколько сажен, повинуясь силе инерции, продолжал путешествие по дресве.
Теперь на каждой перепряжке есть мазанки в две комнаты, с печами, - и лошади цивилизованные, по крайней мере большинство. Одна беда, что на всем пространстве до последнего пикета дурная вода. Дорогой изредка встречаются аулы, у подошвы Манрака виднеются громадные табуны лошадей, около дороги бродят стада верблюдов и баранов.
Справа, вдали, синеет полоской озеро Нор-Зайсан, слева и позади обступают равнину Саур, Тарбагатай и Манрак. Мало-помалу горы исчезают, и едешь необозримой равниной, поросшей травой, таволгой и караганником. В солонцах целые стада дроф и полевых рябчиков.
Приходится переезжать две речки, Чаргу и Базарку, но надо верить на слово, что тут текут реки; чуть-чуть заметный спуск, и вместо чия, колючего караганника и чингиля, вы видите пространство, поросшее хорошею травой, - это и есть речка, то есть речкой она бывает раннею весной, потом несколько времени топью, в которой вязнут проезжие, и окончательно летом превращается в отличный луг, без всякого признака воды.
Верст за восемьдесят до Кокпектов показывается Талагай, отдельная сопка, стоящая в восемнадцати верстах за Кокпектами и имеющая совершенно правильную форму колокола; про нее есть легенда. Когда русские принялись воевать этот край, тут жили богатыри, они решили завалить Иртыш скалой, чтобы поставить русским преграду.
Взялась нести скалу одна семья, отец, мать и сын, дав обет сохранять все время чистоту и беспорочность. К несчастию, они остановились одну ночь около аула невесты сына (киргизский жених пользуется правами мужа). Сын пошел навестить невесту, и на другой день не мог уже поднять своего угла скалы.
Бились, бились бедные богатыри, так и бросили тут Талагай. Близь него большая кварцевая скала, сажен в пять или шесть, и тут же недалеко большой красивый камень, - это кровавые слезы матери увлекшегося сына, белая же кварцевая скала - молоко ее; так била она себя, с отчаяния, в грудь.
Городишко Кокпекты похож на огромную корзину, так как он весь в плетеных изгородях. Но все же и он лучше нашей развалины, калеки Семипалатинска, смотрит веселее и нет песчаных буранов. В Семипалатинске с весны и до снегу мы дышим песком, едим и пьем с песком, в комнатах все покрыто слоем песку, зато сколько и умирают здесь чахоткой.
Выехав из Кокпектов и проехав Талагай и кварцевую скалу, въезжаешь в Караджальское ущелье, знаменитое тем, что здесь почти постоянно ужаснейший буран. Зимой ущелье так заваливает снегом, что по неделям нет сообщения с Кокпектами.
Вся дорога между Усть-Каменогорском и Кокпектами идет в горах и покрыта аулами; большинство из них состоят не из юрт, а мазанок или бревенчатых избенок, без крыш, окруженных плетеными изгородями. Много золотых приисков, самый значительный Михайловский, купца Степанова.
Тут мы переночевали и на другое утро смотрели работы и промывку золота. По дороге с Михайловского прииска есть место замечательное тем, что всегда тут увидишь множество орлов; вероятно, тут их гнезда. Киргизы отлично дрессируют беркутов на волчью и лисью охоту.
Мы видели раз эту охоту. Сначала чрезвычайно красиво и интересно, но финал отвратительный. Несчастную лисицу уже мертвую едва вырвали у двух беркутов, поймавших ее. Наконец 10го сентября мы вступили в благодатный, для лихорадок и чахотки, град Семипалатинск. Строил его немец; привольно в нем жить только верблюду.
Источник и фотографии:
Л. К. Полторацкая. "Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатая" .Русский вестник. 1871 год. № 6.
Бременская экспедиция в Семипалатинской области.
«Несмотря на поздний час, генеральша встретила нас с обычным радушием, и скоро мы сидели в великолепно убранной юрте, за превосходным ужином, в числе блюд которого особенно привлекали к себе, как настоящие местные: отлично приготовленный пилав и киргизский шашлык. Здесь пришлось нам отведать также в первый раз знаменитый кумыс, который мы нашли не противным. Впрочем, мне еще придется говорить об этом питательном и возбуждающем напитке. Благодаря любезности губернатора, гостями которого, в полном смысле слова, мы были и здесь, нам отвели отдельную, чрезвычайно уютную юрту, убранную внутри красивыми бухарскими коврами.»
«Путешествие в Западную Сибирь Д-ра О. Финша и А. Брэма.» 1882 год.
16 апреля 1876 года прибыла в Семипалатинск экспедиция, снаряженная Бременским полярным обществом для исследования Западной Сибири. Она состояла из трех лиц: начальника экспедиции доктора Отто Финша*, известного зоолога доктора Альфреда Брема** и графа Вальдбург-Цейля***.
Их сопровождали переводчик-латыш и московский артельщик. Прибытие их в Семипалатинск произвело большой эффект. Кроме того, что экспедиция была особенно рекомендована вниманию местных властей и Русским Императорским географическим обществом, Министерством внутренних дел и главным начальником края, Г. А. Казнаковым (Н. Г. Казнаков, западно-сибирский генерал-губернатор. - rus_turk.), - имя доктора Брема знает почти вся грамотная Сибирь.
«Иллюстрированная жизнь животных» есть в библиотеке каждого училища. Но как ни известны труды и имя доктора Брема — наружность его была мало кому знакома, и на пути экспедиции в Семипалатинск, в одном из значительнейших городов Западной Сибири, произошло забавнейшее qui-proquo.
Доктора Брема многие приняли за ненастоящего Брема, признав его даже за невежду в зоологии!!! Трудно верилось в подобный факт, но, к сожалению, мы слышали подтверждение от очевидца.
- «Эти немцы совершенные невежды, - говорил нам г-н П-в (Видимо, имеется в виду М. В. Певцов. См. у Дж. Кеннана: «В Омск у нас было рекомендательное письмо от редактора одной петербургской газеты к полковнику Певцову». - rus_turk.) - никакого языка, кроме своего, не знают.
Мы их ругали по-русски - ничего не понимают! Брем этот не мог определить ни одного зверка, ни одной птицы, которых ему показывали в О<мске>!» Свежо предание, а верится с трудом! К несчастию, д. Брем читает по-русски, а граф Вальдбург-Цейль учился русскому языку и по-русски не только читает и пишет, но может, хоть плохо, даже объясняться. Б
ольно было слышать про этот по меньшей мере странный способ определения образованности известных европейских ученых, и еще больнее, что наши иностранные гости не могут сказать обидную поговорку «Grattez le Russe vous trouverez le Tartare», не сделав несправедливости татарам.
Мы долгое время живем среди их и никогда ничего подобного этому дикому факту не знали. Тем более прискорбно, что авторы этих остроумных выходок - люди, претендующие на университетское образование (М. В. Певцов некоторое время посещал Петербургский университет в качестве вольнослушателя. - rus_turk.).
Слыхали мы, как фотографию зовут - кунсткамерой, тарлатан - инфузорией, болезнь желудка - животной болезнью и т. д., но чтоб доктора Альфреда Брема признали невеждой даже в зоологии - не ожидали. Гости наши провели в Семипалатинске три дня, занимаясь приготовлениями к дальнейшему путешествию; обедали и вечера проводили у нас.
Хотя, собственно, главною целью экспедиции было исследование Обской губы, низовьев Оби и возможности прямого водяного или сухопутного пути с Оби в Карское море через Байдарацкий полуостров, но экспедиция признала полезным начать свои исследования, если возможно, с самых верховьев Обского бассейна и кстати исследовать Тарбагатай, Алатау и степное озеро Алакуль, представляющее уже резкое отличие от Обского бассейна, где встречаются даже индейские виды амфибий.
С Алакуля предполагалось проехать долиной Емиля в Зайсанский пост, на Черный Иртыш, озеро Зайсан, на Усть-Каменогорск, Зыряновский рудник; оттуда верхом перевалить через Холзунские горы на Уймон, пройти по р. Катуни, вверх по р. Чу, перейти на Башкаус к Чулышману, спуститься на Телецкое озеро и оттуда, через Бийск, проехать в Барнаул.
Но так как начальник экспедиции ставил непременным условием прибыть в Барнаул к 5-му июня, чтоб экспедиция к 25-му июня могла уже быть в Обдорске, то ближайшее рассмотрение подробной карты и приблизительное исчисление расстояний убедили в невозможности этого предположения.
Поэтому гг. члены экспедиции приняли предложение моего мужа, - с Черного Иртыша пройти по южному склону Курчумского хребта на озеро Маркакуль, особенно их интересовавшее, перейти через Южный Алтайский хребет одним из перевалов, Чурчут-асу или Бурхатским, в Бухтарминскую долину, и через Алтайскую станицу, заехав в Зыряновский рудник, спуститься Иртышем в Усть-Каменогорск, откуда ехать почтовым трактом в Барнаул.
Путь экспедиции в Сергиополь проходил через Аркад, группу невысоких гранитных гор, высотою до 1200 футов, где держится архар (Ovis argali), горный баран, животное совершенно неизвестное в Европе, — даже не во всех зоологических музеях есть его чучелы, с замечательными, доходящими до пуда весу рогами.
Нашим гостям было предложено устроить на Аркаде охоту на этого зверя, на что они с удовольствием согласились. 20-го апреля, в 8 часов утра, члены экспедиции, вместе с мужем моим, выехали из Семипалатинска. Большое общество охотников, между которыми были и дамы, уехали днем ранее; с ними уже поехал И. Ф. Каменский, отправлявшийся через Кульджу в Китай с торговыми и научными целями.
Переправившись на пароме через Иртыш, наши ученые гости в первый раз вступили в Киргизскую степь, и первое знакомство с нею произвело очевидно приятное впечатление. Был ясный солнечный день, и степь, обыкновенно малооживленная, в своем грандиозном просторе, теперь жила во всю ширь весны.
Целая масса пернатых населяла ее. В каждой низине стояло озеро, на котором копошились и перелетали тучи пролетной птицы: в каждом кустарнике щебетали пташки; в воздухе звенели жаворонки, плавными кругами кружили сокола, высматривая добычу.
Иностранцы несколько раз выходили из экипажей стрелять птиц, представлявших для них новые или малоисследованные виды и роды. Переезд этого дня доставил значительную орнитологическую добычу: жаворонки четырех видов, в том числе черный (Alauda tartarica), турпаны, полевые рябки, полевые кулики и проч.
Со всеми этими задержками, экспедиция приехала только к 11 часам ночи в Аркад, где в хорошенькой долине, недалеко от гор, расположился охотничий лагерь. Роскошно убранные коврами и тикиметями, юрты, кажется, удивили иностранцев, очевидно представлявших себе юрту чем-то весьма грязным и жалким.
Накануне киргиз-охотник убил великолепного 5-летнего самца архара. Все бросились его рассматривать, и киргиз под руководством д. Финша и Брема снял с него шкуру. Кроме того, киргизы поймали живьем двух ягнят-аргали, 5 - 6-дневных. 
Члены экспедиции просили отправить их в Семипалатинск, откуда они надеялись доставить их в Берлинский зоологический сад: но, несмотря на весь уход, аргали не выжили и 4-х недель - замытились и передохли. На следующий день, сборы, завтрак, препарирование снятой с архара шкуры и убитых накануне птиц заняли немало времени, так что сели на лошадей только к полудню.
Человек двести киргизов-загонщиков отделились, чтоб прогнать отдельную группу гор, занимавшую верст 10-ть в поперечнике, где, по словам киргиз, накануне видели архаров. Предоставляю описание этой охоты одному из участвовавших в ней.
Выезд наш со стоянки представлял красивую оживленную картину: человек 20-ть охотников и дам верхами, масса киргиз в ярких пестрых костюмах; долина, покрытая волнующимся, как спелая рожь, чием, у ручьев и в низинах густые заросли кустов, роскошные травы и цветы, серые скалы в причудливых наслоениях, вырезающиеся на синем фоне неба, - и все это залито лучами яркого апрельского солнца.
Но не успели мы отъехать 3-х верст, как заметили самые неприятные предвестия, знакомые всем путешествовавшим в горах: вершины гор закурились, и вскоре разразилась гроза с проливным дождем (20-го апреля) [Вообще, этот год у нас замечателен в метеорологическом отношении.
Первая гроза была 20-го апреля, а последнюю грозу мы видели 5-го октября в Колбинских горах, в этот день с утра мы ехали по снегу, а в полдень разразилась гроза с ливнем.]. На счастье, гроза застала нас около киргизской зимовки, в которую и укрылись от ливня.
Иностранцы обошли и вылазали всю зимовку, далеко не соответствовавшую роскоши выставленных юрт; но они весьма интересовались ею и расспрашивали очень подробно. Через час ливень прекратился, снова прояснело. Охотники отправились далее, а дамы, вероятно, убоясь дождя, перешли в юрту, поставленную на условленное для сбора место.
Проехав от юрты версты две, охотники стали занимать свои места. Здесь горы представляли две отдельные группы, разделенные лощиною версты три длиною — сначала широкою и отлогою, а под конец сходившуюся в тесное ущелье.
По всем охотничьим соображениям, архары, крайне неохотно идущие на равнину, должны были, уходя от облавы, броситься в ущелье, чтоб пробраться на другую сторону гор. Соображаясь с этим, стрелки и разместились по скалам левого края ущелья.
Прошло часа два знакомого охотникам тревожного ожидания. Изредка, вдали по горам, показывались группы киргизов и одиночные всадники, но зверя все не было. Облава, хотя и в невысоких, но скалистых горах, с неопытными загонщиками, оказалась делом далеко не легким.
Впрочем, по рассказам киргиз, они видели несколько табунчиков штук в 5 - 6, но, путаясь между бесчисленными ущельями и ямами, никак не могли направить зверей по желаемому направлению. Вдруг, шагах в 200 перед цепью, послышалось несколько отдельных голосов и, совершенно неожиданно, два архара пронеслись между стрелками.
Один пошел на другую сторону гор, другой же повернул и прежним путем, благополучно, без выстрела, прошел через цепь. Вслед за архарами показался волк, получивший несколько выстрелов вдогонку. Появление этих зверей было только отдельным эпизодом охоты.
Как оказалось, несколько киргиз, преимущественно старшин, из остававшихся при нас, наскучив ожиданием, поехали навстречу облаве и, не более как в полуверсте от цепи, встретили спокойно пасшихся аркаров — самца и самку с ягненком.
У всех на глазах, ягненок спрятался в скалах и не был найден, при самых усиленных стараниях его взять. Самец же и самка прорвались сквозь цепь. Один киргиз с беркутом остался, впрочем, караулить ягненка и к вечеру привез его, правда, до половины растерзанного птицей.
Облава, оказалась, еще не подошла, но появление этих двух аркаров было принято большинством за окончание охоты; все сошли с своих мест, сели на лошадей и поехали долиной, отдельными группами, к виднеющейся вдали юрте.
При подъеме на гору, седло у гр. Вальдбурга свернулось, и он упал, сильно ударившись локтем о камень. Ушиб был довольно значительный, но без серьезных последствий. В то время, как наше рассеявшееся воинство частью тянулось еще по долине, а большинство уже доехало до юрты и, скинув охотничьи доспехи, болтало и закусывало, - на горах показалось шесть движущихся точек - архары, за которыми, с криком и гамом, с разных сторон скакали киргизы.
Арьергардные охотники поскакали наперерез им. Казак полетел к юрте звать остальных, но прежде нежели цепь успела снова сомкнуться, архары, шесть великолепных рогачей, после некоторого колебания, решились спуститься с горы; но вместо того, чтоб идти в самое узкое место ущелья, где, впрочем, в это время уже никого не было, не торопясь, рысцой направились по самой широкой части долины, шагом перебрались через болотистый ручей, шагах в 600-х от юрты, подле которой собралось почти все общество, с понятным отчаянием взиравшее на этот неожиданный пассаж, - и скрылись в горах.
Напрасно многие поскакали - одни вдогонку, другие наперерез: кроме более или менее головоломной скачки, ничего не вышло - архары, невежливые даже к преследовавшим их дамам, - ушли. Делать вторую облаву было уже поздно; первый день охоты окончился неудачей, но, по крайней мере, гости наши видели ту редкую дичь, которую им хотели показать.
Во время завтрака д. Брем достал свою записную книжку и, подозвав несколько киргизов-охотников, стал расспрашивать их, с помощью двух переводчиков, о нравах и образе жизни архаров, не раз сожалея, что вновь собранные сведения не попадут во 2-е издание «Жизни животных», готовое уже к печати стереотипом.
Проснувшись на другой день, мы увидели, что погода окончательно испортилась, - снег валил хлопьями, холод, ветер. По-видимому, день пропал, но к полудню мятель стихла и мы решились еще раз попытать счастья в другой группе гор, образующей правую ограду долины, бывшей вчера местом наших подвигов.
Решили отправить вперед несколько киргизов разведать, куда делись вчерашние архары, а за ними потихоньку тронулись и охотники. Дойдя до ручья, у которого вчера был привал, расположились около костра поджидать известий.
Через несколько времен и явились киргизы с докладом, что архары есть, и даже пара пасется не далее как в полуверсте. Отправили загонщиков, послали ставить охотников, а я и Брем решили попытаться скрасть, по здешнему выражению, архаров, но или мы не умели подобраться достаточно тихо, или нас почуяли архары по ветру, но в той долине, где их видели, мы уже никого не нашли.
Горы, из которых предполагалось выгнать аркаров, высились крутыми скалами, обрывавшимися в равнину чуть не отвесно. В одном месте вдавалась полукруглая долина, оканчивавшаяся к средине узким, скалистым коридором; по ней группами были разбросаны отдельные скалы и камни.
В этом-то полукруге мы и расположились за камнями. Мне досталось лучшее, в охотничьем смысле, место, - в центре полукруга, против самого коридора. Вправо от меня, на высокий уступ взобрался гр. Вальдбург; влево, у подножия горы, - д. Финш; еще левее, против ущелья, разделявшего общую массу гор от отдельно стоящей огромной скалы, - Брем.
Примостился я на своем месте за камнями и стал ждать. Но скоро мне сделалось не до охоты; собираясь скрадывать архаров, я бросил на привале свою шубу и остался в одном коротеньком полушубке; ветер дул резкий, холодный, по временам шел снег, и я просто начал замерзать. Несмотря на то, что совершенная тишина была первым условием успеха охоты, - оставаться неподвижно я был не в силах и, чтобы сколько-нибудь согреться, стал ходить взад и вперед за своим камнем.
Говорят, что в это время два архара вышли, будто бы, на вершину скалы, с очевидным намерением спуститься на меня, но, видя движущийся предмет, скрылись. Стало уже вечереть; солнце перед закатом выглянуло наконец из-за туч и ярко осветило местность.
Я стал подумывать, что и этот день не удался, пора и домой, - как вдруг влево резко прокатились два штуцерные выстрела. Глядим - от д. Брема мелкой рысцой идет архар-самка с ягненком; перейдя поляну, сзади линии охотников, зверь рассчитывал снова вернуться в горы на правом краю полукруга.
Ему-то д. Брем и послал вдогонку два выстрела, из которых один, войдя в заднюю лопатку, вышел в грудь. Несмотря на такую рану, архар продолжал идти сначала рысцой, потом шагом. Все мы, - Брем, Финш, Вальдбург и я, двинулись ему наперерез, но прежде, чем успели добежать, один конный киргиз бросился за ним, архар пустился вскачь и, вместе с ягненком, бойко взобрался на скалу, сажен пятнадцать вышиною. Тем временем, Брем успел уже стать на дальнейшем пути ему в горы.
Как только архар показался на краю скалы - еще выстрел, на этот раз в шею, и зверь красиво рухнул со скалы, перевернувшись в воздухе через голову; мы видели, как испуганный ягненок бегал по небольшой верхней площадке скалы и наконец исчез куда-то.
Несколько киргизов полезли его искать, слышали, как он блеял где-то, но и на этот раз отыскать не могли - так ловко умеет таиться животное в расселинах скал, с которыми совершенно сливается по цвету шерсти. Убитую архарицу взвалили на лошадь, которая гнулась под семипудовою тяжестью; пришлось привести верблюда; на него, бережно завернув в кошмы, чтоб не испортить шкуры, уложили зверя и с торжеством повезли домой, на стоянку.
«Tout est bien qui finit bien». Счастливый исход охоты заставил всех нас позабыть и холод, и ненастье; виновник же торжества, наш знаменитый гость, сам страстный охотник, был в восторге.
- Такой случай представляется раз в жизни! - повторял он, пожимая руки всем нам.
Вернувшись к юртам, все собрались к ужину. Послали за киргизским певцом, который пел импровизации и песни, аккомпанируя себе на домбре. Брем, особенно интересовавшийся этими песнями, записывал их слово в слово. После ужина, охотники придумали оригинальное состязание в стрельбе: поставили зажженную свечку на поднятый верх тарантаса и стали тушить ее пулей.
Победителем остался А. П. Железнов, наш heiter-denkender polizeimeister, как назвал его д. Брем в одной из своих импровизаций. Хотя стреляли из магазинного ружья Винчестера, которое Железнов первый раз взял в руки, он с первого выстрела, в тридцати шагах, срезал светильню.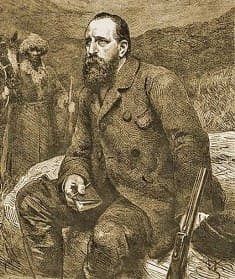
На следующей день была байга и борьба болванов (борцов). Все свободное время, прежде и после этих зрелищ, члены экспедиции, в особенности д. Финш, занимались препарированием убитых архаров и птиц. Ящериц же, вообще всяких амфибий и рыб, завертывали бережно в бумагу, надписав когда и где поймана, затем завязывали в тряпку и опускали в жестянки со спиртом.
На следующий день мы разъехались: экспедиция через Сергиополь на Алакуль; И. Ф. Каменский - в Кульджу, а мы, семипалатинцы. обратно в наш Семиге (киргизское название Семипалатинска), сговорившись с экспедицией съехаться на Майтереке (пограничном отряде, на южном склоне Курчумских гор), при возвращении ее с Нор-Зайсана и Черного Иртыша, чтоб вместе пройти по Алтаю на Маркакуль.
18-го мая, накануне нашего выезда в горы из станицы Ульбинской Усть-Каменогорского уезда, мы в первый раз, с тех пор как живем в этих местах, слышали подземный удар. Часов в 10-ть вечера, мы сидели в бараке, вдруг барак дрогнул, как показалось некоторым, от налетевшей на него с карьера тройки; связи барака скрипнули, посуда зазвенела, стоявшие на ногах ясно слышали сотрясение пола; вслед за тем несколько секунд слышался грохот как будто отдаленного грома. Удар этот слышали на расстоянии верст ста от запада к востоку.
Выехав 19-го мая из Ульбинска и доехав до Курчума в экипажах, мы сели на лошадей и пошли на вьюках. Переправа через Курчум была не особенно удобна: вода была так велика, что о броде нельзя было и думать; пришлось переправляться на киргизском пароме из двух долбленых челноков, связанных вместе, с помостом из нескольких досок; лошадей же перегнали вплавь.
Переход был очень утомительный: мы дошли до ночевки, идя все время ходой и рысью, только к часу ночи; едва успели войти в юрты - хлынул дождь и разразилась гроза. Но что значит и утомительный переход, и ночь в сырой от дождя юрте, когда со следующим утром очутишься в земном раю!
Кто передаст прелесть раннего утра в этих равнинах! Солнце льет потоки мягкого ласкающего света, чуть где тронув золотыми блестками еще покрытую легким туманом реку, зелень и цветы; неясно, как сквозь дымку, желтеет, колышась, как спелое ржаное поле, чий, и сливается с синеющею далью.
Воздух до того живительно хорош, что, кажется, умирающего воскресить. Мы выступили в шесть часов и пошли от Курчума но предгорью Буконбая; вправо расстилалась Зайсанская, или Иртышская котловина: по ней, местами, виднелся Иртыш; за ним, на южном горизонте, в тумане синели вершины Саура и Мустау.
Под вечер, подходя к ночлегу, мы встретили низины, буквально сплошь покрытые лиловым душистым ирисом. Охотники наши застрелили интересную птицу, дрофу-иноходца (как зовут ее киргизы); это небольшая дрофа с длинными перьями, как жабо, около шеи.
Тут же взяли ее гнездо с яйцами. На следующее утро мы узнали, что германская экспедиция ночевала верстах в 10-ти от нас. До сих пор мы огибали южное подножие Алтая, теперь же повернули к северу и вошли в горы. С каждым шагом вперед природа становилась роскошнее: лесу еще не было, но цветы и кустарники удивляли богатством и разнообразием.
В этот день наша ботаническая коллекция весьма увеличилась, хотя многих растений мы не сумели сохранить. Подъезжая к долине Сенташ, мы нагнали хвост каравана экспедиции; оказалось, что гости наши прошли уже вперед и ждали нас на привале.
Встреча была самая дружеская. Они много рассказывали про путешествие на Алакуль. Знаменитое средство добывать рыбу для коллекций, отравляя ее стрихнином, оказалось вполне не пригодным, и они добывали ее неводом. Д. Финш весьма был доволен своей поездкой на Алакуль и Алатау, где экспедиция достала много интересных и неизвестных им рыб, очевидно, неевропейских пород, между прочим маринку с ядовитой икрой; новые породы ящериц, мелких черепах и проч.
С Алакуля экспедиция отправилась на Бакты, где была встречена зайсанским приставом, который и повел ее через Чугучак, по долине Емиля и южному склону Тарабагатая, на Зайсан. В Чугучаке они были в гостях у дзянь-дзюня Джуна.
Наш недавно выстроившийся Зайсанский пост, с правильно разбитыми улицами, свеженькими зданиями и арыками проточной воды, произвел на них самое приятное впечатление. Тут они охотились на уларов (Горная индейка.), достали шкуру барса, убитого на Сауре, и вообще весьма пополнили свою коллекцию.
* Доктор Отто Финш, сын купца, родился 8 августа 1839 г. в Вармбруне, в Шлезвиге. Получив образование дома, он должен был вступить в дела отца, но ребенком еще обнаружил страсть к естествознанию и в 1858 году отправился в Пест, чтоб работать в музеуме; потом поехал домашним учителем в Турцию, где пробыл 2½ года; в течение этого времени сделал много экскурсий в Балканы и по Дунаю.
Возвратясь на родину, он получил в 1860 году место ассистента в Королевском Нидерландском музее в Лейдене, где учился под руководством профессора Шлегеля и слушал лекции Яна фон дер Хевена; в 1864 г. состоял консерватором естественноисторического музеума в Бремене, в особенности замечательного своей основательной орнитологической коллекцией.
В 1872 г. д. Финш, с секретарем Полярного общества д. Линдеманом, сделал путешествие в Соединенные Штаты, преимущественно для изучения рыб: посетил Скалистые горы и Калифорнию. В 1873 г. он был в Норвегии и Лапландии. Д. Финш - автор многих сочинений и монографий, около 120, написанных частью на английском языке.
** Доктор Альфред Брем, сын одного из основателей немецкой орнитологии, «старого Брема» (Христиана Лудвига), священника в Рентендорфе, в Тюрингене, родился 3-го февраля 1829 г.; он учился в Йене и в Вене. С 1847 до 1852 г. путешествовал по Южной Африке; в 1860 г. посетил Норвегию и Лапландию, и в 1861 г. пять месяцев путешествовал по Абиссинии с герцогом Саксен-Кобург-Готским.
Перед отъездом в Абиссинию доктор Брем начал свой знаменитый труд «Иллюстрированная жизнь животных». С 1863 до 1867 г. д. Брем занимал место первого директора зоологического сада в Гамбурге: в 1867 г. им основан Берлинский аквариум.
Из его сочинений можно назвать следующие:
1) «Путевые эскизы» из путешествий по Африке;
2) «Жизнь птиц». Путешествие по Норвегии и Лапландии (1860 г.);
3) Путешествие в Габеш.
4) «Лесные животные», изданные вместе с Россмеслером.
5) «Иллюстрированная жизнь животных»;
6) «Пойманные птицы». Затем, множество статей в Gartenlaube, «Журнале орнитологии» и других.
*** Граф Карл Вальдбург-Цейль-Траухбург, младший брат князя Вальдбург-Цейля, президента Виртембергской палаты, родился в 1841 году. Кончив гимназический курс, он стал изучать лесоводство в Сельскохозяйственной Гогенгеймской академии и в Лесной академии в Таранте, где сверх того он изучал естественные науки и слушал химию у профессора Штекгардта; затем граф Вальдбург посещал Лейпцигский университет, но война 1866 г. заставила его прекратить научные занятия, так как он счел своим долгом стать в ряды виртембергских войск.
В 1870 г., взяв 6-месячной отпуск, граф в сопровождении известного естествоиспытателя Теодора фон Хейглина предпринял путешествие на Шпицберген; Земля Короля Карла была осмотрена ими на большем протяжении, нежели прежде шведами.
За это путешествие гр. Вальдбургу была дана большая золотая медаль «За искусство и знание». После франко-прусской войны, в которой граф принимал участие, он был назначен ординарцем к наследному принцу германскому. Для настоящего путешествия ему дан двухгодичный отпуск.
С Зайсана экспедиция отправилась в экипажах на Черный Иртыш и спустилась по нем на карбазе, продолжая охотиться и делать наблюдения. Масса водяной птицы, оживляющей в это время года Иртыш, начиная от речного орла, черной цапли, лебедя, - до мельчайших куликов и уток, дали возможность хорошо познакомиться с орнитологией этого края.
На рыбалке некоего Даньяра, чело-казака (Под общим именем чело-казаков здесь известны потомки, по большей части беглых горцев, татар, крестьян, бежавших от помещиков, беглых солдат, даже каторжников, которые издавна, еще до принятия в русское подданство, водворились в этом пустынном в то время крае, в отдаленнейших пределах двух смежных государств.
Смешавшись с киргизами, они приняли их костюм и нравы, образовав почти новый этнографический вид. Между женщинами я видела белокурых и голубоглазых. Зажиточные челоказаки, хотя и кочуют, но имеют отличные дома, устроенные на манер татарских, и многие из них занимаются торговлей.), издавна поселившегося в низовьях Черного Иртыша, экспедиция занялась изучением местной рыбы.
Обилие и разнообразие благородных пород (осетр, карыш, стерлядь, нельма, тальмень и проч.) поразило их не менее, как полное неуменье приготовлять рыбу и икру впрок. Наши рыбаки не умеют даже коптить рыбу, ограничиваясь ее засаливаньем и вяленьем на солнце.
Переплыв озеро Зайсан на карбасе, экспедиция высадилась на северном берегу и двинулась по Зайсанской долине, к Майтереку. Долина эта бесплодная и безводная, местами покрытая солонцами, а в большинстве мелким кварцем, имеет все характеристические особенности Гоби, и населена бесчисленным количеством ящериц.
Тем не менее этот переход был весьма интересен гг. зоологам, так как они увидели стадо куланов и охотились за ними, хотя и неудачно. После скачки на протяжении нескольких верст, удалось догнать только жеребенка нескольких дней; его взяли живым, но от изнурения он издох в тот же вечер.
По поводу куланов мне вспомнился анекдот, бывший с д. Финшем на Зайсане. Все члены экспедиции, хоть плохо, но могли объясняться по-русски, и между прочим, смеясь, говорили, что они особенно хорошо запомнили одно русское выражение, «Ничего!» - слышанное ими в первый раз от ямщика в то время, как они лежали под опрокинувшимся экипажем.
На Зайсане д. Финшу достали убитого кулана; он тщательно снял с него шкуру, для чучелы, и велел положить сушить, - но ночью кто-то умудрился обрезать кулану хвост.
Д. Финш, крайне раздосадованный этим происшествием, с огорчением воскликнул:
- «Das ist schon - нет ничего!»
Отдохнув на привале, мы пошли на Майтерек. Интересные рассказы наших гостей, красивая местность, множество новых для нас видов растений и птиц сделали эту часть перехода, обыкновенно самую утомительную, совершенно незаметной.
Вероятно, только д. Финш и до сих пор лихом вспоминает меня за этот переход.
Видим мы в кустах, близ дороги, сидит прехорошенькая птичка, ярко-красная с хохолком на голове: мы придержали лошадей, чтоб полюбоваться ею, вдруг я слышу:
- «Мартин - дай ружье».
Я, забыв и обязательную любезность хозяйки к гостю, и пользу науки, толкнула лошадь в кусты и, под видом желания рассмотреть пташку поближе, спугнула ее и ее самочку, порхавшую тут же. Я слышала скорбный возглас д. Финша, но дело уже было сделано.
На другой день на Майтереке шел инспекторский смотр и ученье казачьему отряду, а у уездного начальника происходил съезд трех волостей. Иностранцев все это очень занимало. Несмотря на дождь, они ходили и рассматривали массы собравшихся киргизов.
Киргизы принесли несколько экземпляров зверей: живых лисенят, волчат, сурков, и тут же был вырыт, по указаниям д. Брема, «слепыш» (Spalax), по-видимому, редкое и малоисследованное животное. Всю ночь и весь следующий день лил дождь.
По общему совету решили простоять еще день на Майтереке. Экспедиция приводила в порядок свои коллекции и писала путевые заметки и письма. Д. Брем пишет свои заметки и письма стенографически, переписывает же их m-me Брем, нарочно выучившаяся для этого стенографии.
К ужину все собрались в столовую юрту, где, несмотря на сырость и холод и то, что все сидели на коврах и стол, т. е. скатерть, была накрыта на ковре же, - право, было веселее и приятнее, чем подчас в самом комфортабельном салоне, даже и столичном.
Д. Финш рассказывал про свое путешествие в Скалистых горах; гр. Вальдбург и д. Брем - различные эпизоды из своих путешествий, охоты. Между прочим д. Брем вспомнил один случай, бывший с ним во время управления Берлинским зоологическим садом.
Датский король прислал в подарок саду великолепного белого королевского оленя. Приручить это животное, несмотря на все старания, оказалось невозможным. Он был до того зол, что даже проходить мимо его загородки было небезопасно: любимым его занятием было - бить с разбега рогами в железную решетку клетки.
Особенно не терпел он Брема: довольно было животному увидать его или услышать звук его голоса, чтоб придти в ярость. Однажды, проходя по саду в то время, когда в нем было много посетителей, Брем видит, что у этого оленя стоит дама с девочкой лет семи; малютка, стоя плотно около решетки, просунула всю ручонку выше локтя сквозь железные прутья, подманивая страшное животное.
- «Видя опасность, которой подвергался ребенок, я пришел в ужас, - рассказывал д. Брем.
- Не знаю, как предупредить несчастие: подойти и отвести ребенка, закричать им невозможно - животное рассвирепеет в ту же минуту и убьет ребенка или, самое меньшее, переломит протянутую в загородку ручку. Я быстро подошел к одной из прогуливавшихся дам.
- „Прошу вас - дайте мне вашу шаль!“
Дама удивленно на меня посмотрела.
- „Я прошу вас, дайте шаль! я директор сада!“
И, схватив шаль с плеч растерявшейся дамы, я накинул ее себе на голову и поспешно подошел к матери ребенка.
- „Бога ради, возьмите сию секунду вашу малютку прочь!“ - прошептал я ей на ухо.
И эта дама также растерялась совершенно, не зная, что подумать об этом маскараде.
- „Я вам приказываю! Я директор сада!“ - продолжал я ей шептать на ухо.
Не успела мать отдернуть ребенка, я сбросил с себя шаль, и в ту же минуту железные прутья зазвенели под ударами рогов. Но и это свирепое животное нашло себе победителя. Привезли в зоологический сад из Америки громадного вапити и поместили рядом с свирепым белым оленем, который тотчас всю свою ярость обратил на нового соседа, и наконец сбил рогами разделявшую их деревянную перегородку и бросился на вапити.
Тот спокойно выдержал две атаки; наконец бросился сам на врага, поднял его на рога и, несколько раз ударив об стену, бросил на землю. Ну, мы обрадовались, что этот дьявол покончен: он лежал в крови, без движения, высунув язык, с переломанными ребрами. Что ж бы вы думали? Ожил! Через месяц дрался по-прежнему».
25 мая мы выступили с Майтерека; с утра погода была ясная, солнце ярко светило, и только мы хотели порадоваться на впечатление, которое, очевидно, производил наш красавец Алтай на иностранцев, поднялась такая погода, что именно света Божьего не стало видно.
Дождь лил не из ведра, не из ушата, а целое море опрокинулось на нас. Мокли мы, мокли, наконец сил никаких не стало — решили взобраться на гору, под защиту густого лиственного колка, раскинули между деревьями небольшую кашгарскую палатку и скрылись в нее.
Перчатки, платки, плащи, зонтики, казаки сушили или, вернее, подпаливали над кострами. Да и костры-то едва развели. Наконец закипел чайник, подали чай, и мы отогрелись немножко. Тем временем ливень сменился густым снегом, но через какие-нибудь полчаса непогоду точно рукой сняло: засинело небо, заблистало солнце, и сквозь темную чернь хвойного леса засверкали снежные вершины.
Только мокрые наши кони, плащи, да снег под ногами в тех местах, где не разогрело солнышком, да смокшая трава напоминали принятый нами душ. Дорога пошла трудная; скользкие спуски опасны; надо особую снаровку, чтоб спускаться, особенно по траве: где вести лошадь зигзагами, где придержаться за «патвей», чтоб при прыжке лошади вниз не перелететь через голову.
Наши же гости были не особенно опытные наездники в горах. Впрочем, и очень опытный и отличный наездник, наш heiter denkender polizeimeister Железнов, не придержался на таком прыжке и «поймал налима», по казачьему выражению.
К моему большому сожалению, об фотографии нельзя было и думать: надо было спешить, чтоб придти засветло на ночлег. Проводники качали головами, повторяя: «Джаман джол, джаман!» (дурная дорога, дурная!). А если у киргиза или алтайского зверовщика дорога признается дурной, то сомневаться в ее достоинстве нечего.
Дошли мы до Джаман-Джол; это тропинка, идущая ущельем по берегу горной речки: в это время года речка ревела и неслась бешеным потоком: вся тропочка состояла из больших камней, мокрых и скользких, местами заваленных глыбами снега. Несколько лошадей, поскользнувшись, упали.
- "Действительно, джаман-джол», - признались мы все единогласно.
Наконец вышли из ущелья, перешли сердитую речку вброд и вошли в живописную долину, где были уже расставлены юрты. После обеда, он же и ужин, пригласили к чаю, в столовую юрту, киргизских старшин. Один из них, потомок знаменитого батыря Барака, имя которого до сих пор служит боевым кликом их рода, - грамотный и считающийся чуть не святым старик Алтыбай вел, разумеется, через переводчиков, долгую беседу с д. Бремом.
В заключение Брем прочитал несколько стихов из Корана. Заслышав стихи, наши киргизы принялись совершать бату (молитву).
Узнав, что «Улькун-немец» (большой немец) читает Коран и, мало того, объясняет его их ученому Алтыке́ (сокращенное Алтыбай), - киргизы обступили юрту, как пчелы улей, без церемонии приподняли и раздвинули кошмы - и кругом и около нас появились улыбающиеся скуластые киргизские физиономии, с несказанным удовольствием и любопытством внимавшие беседе своего Алтыке́ с Улькун-немцем. Д. Брем, расспрашивая Алтыбая про обычаи киргизов, делал сравнения с обычаями арабов, между которыми он жил пять лет; при этом рассказал несколько эпизодов из своего пребывания между ними.
По мере того, как переводчик переводил Алтыбаю рассказ Брема, этот рассказ передавался киргизами, всунувшими свои лица в юрту, толпе, окружавшей ее; если было что-нибудь смешное, дружный хохот раздавался в юрте и потом подхватывался кругом.
Но вдруг киргизы отхлынули от юрты, и сидевшие в ней солидные старшины стали из нее выглядывать, с видимым желанием последовать за своими. Д. Финш перед юртой играл на гармонике (Прошлым летом киргизы слышали у нас в Ульбинске игру на рояле.
Нельзя передать их изумления и восхищения. Они заглядывали и под рояль, и сами пробовали клавиши. Слава рояли и игравшего на нем, действительно отличного музыканта, облетела всю степь: на всех съездах шли рассказы, что есть машина в 1200 струн (почему именно в 1200 - неизвестно) и есть человек, играющий на ней двумя руками, по книге.); всякая новинка интересует и тешит киргиза как ребенка, и через несколько минут д. Финш был окружен такой же толпой, как и ученый его товарищ.
Вслед за нашими гостями и мы вышли из юрты. Луна освещала ярким, почти дневным светом долину, где лето и зима так чудно сливались; кругом сияли снежные вершины, голубоватым, как бы фосфорическим светом; между исполинскими деревьями светлели серебристые залежи снега, а под нашими ногами расстилался ковер роскошнейших трав, усеянных цветами.
Долина была так волшебно хороша, что даже такой бедный инструмент, как гармоника, и простые мелодии, игранные д. Финшем, казались необыкновенно хороши. Надо прибавить, что аккомпанементом мелодий д. Финша был перелив не фортепианных «Каскадов» и «Ручейков», а действительно гармонические всплески, грохотанье и непрерывные переливы горных потоков.
На следующий день, в 5 часов утра, д. Брем с Железновым, переводчиком и несколькими казаками и киргизами поехал вперед на оз. Маркакуль, располагая дорогой охотиться и заехать на Колджир, единственную реку, вытекающую из Маркакуля.
Часа через два после них двинулись, по тому же направлению, д. Финш, гр. Вальдбург, мой муж и еще несколько человек с ними. Я осталась фотографировать, и мне назначено идти с места в 9 часов. Условлено было так, что, пройдя от места ночлега три часа, - привал.
Мы запоздали немножко и пошли с места на рысях; прошли, по нашему расчету, пространство в час, два, три, наконец едем четвертый час в половине, а привала нет как нет! Что, если вышло недоразумение, все съехались на привале, отзавтракали и ушли вперед - тогда плохо наше дело, до ночлега придется идти на пище св. Антония.
Прошли мы два ущелья с такими же «джаман-джол», как вчера; поднялись на высоту: кругом виднеются зеленые горы, местами покрытые снегом, вправо чернеет глубокое ущелье Колджира; еще правее назад, уже за Иртышем, верстах в 80-ти от нас, виднеются пески Бозайсыр и за ними вершины наших старых знакомых Мустау и Саура.
Но нам не до них, не до красот природы: у всех одна мысль:
- «Где же привал?»
Вдруг - о радость! на одной из высот наша синяя палатка и около нее вьется дымок - рисующий воображению висящий над огнем чайник и, равносильный для путешествующих сказочной живой воде, чай. Так как нас и снегом осыпало, и холодным ветром прохватывало, то эта картина, если не из замечательных по красоте, была для нас несказанной приятности.
Все хмурые и озабоченные физиономии распустились в приятнейшую улыбку, но не надолго; только соскочили с лошадей и вошли в палатку, как физиономии вытянулись хуже прежнего. В палатке подан завтрак, но, очевидно, к нему никто не прикасался.
Это, выходит, нашим спутникам идти на пище св. Антония? В партии голодных будет и муж, и сын, и гости. Разумеется, виновны будут сытые. Сели мы все пригорюнясь около разосланной на ковре скатерти и так аппетитно смотрящих яств, и принялись за самое неразумное: толковать о том, кто виноват.
Люди, отправленные с палаткой, и повар, по их словам, не виноваты; прошли, как приказано, три часа, не нашли никого, прошли еще час и стали. Мы сделали то же самое, по-нашему выходит, и мы правы; но голодающим от этого не легче.
Разделили завтрак на три части, завязали в салфетки и сдали киргизам, велев скакать на розыски наших. Сами наскоро позавтракали, залили горе чаем и снова пошли, где только можно - рысью, где и вскачь; уж как моя фотография уцелела на этом аллюре - Богу известно.
Не прошли и трех верст, видим - в лощине около речки маленькая фигурка, сидящая на камне, и около нее казак: у обоих лошади в поводу. Подскакали к ним - это мой Саша. Оказалось - вторая партия наших, т. е. муж, д. Финш и гр. Вальдбург, просидели на этом месте часа полтора в чаянии привала, не ведая, не чуя, что он их ждал за перевалом, что «счастье было так близко - так возможно!».
Наконец, потеряв терпенье, они пошли далее, оставив Сашу с казаком, чтоб указать нам, последней и, по их соображениям, самой бедствующей партии, - по какому направлению идти. Дорог на Маркакуль несколько, и можно разойтись на большое пространство.
Один из посланных с завтраком проскакал по этой же лощине. Саша догадался его остановить и отделил себе и казаку перекусить. Вот уж двое из голодающих и накормлены, вероятно, киргизы не замедлят нагнать и остальных.
Все в порядке! Снова весело и бодро пошли, хотя дорога делалась все хуже и хуже. Вершинами, как мы ходили в 70-м году, идти было нельзя, - они завалены снегом. Пришлось пробираться косогорами, спускаться в ущелья и переходить броды.
Часто попадали в такой снег, что лошади проваливались по брюхо. Наконец подошли к крутому спуску; верхняя его часть была сплошная снеговая масса. Киргиз сунулся спускаться на лошади, но оказалось невозможно - лошадь покатилась.
Делать нечего, сошли с лошадей, бросили им повода на шею и предоставили действовать по собственному разумению. Один из наших спутников завернулся поплотнее в кожан, сел на край спуска, вытянув ноги, и полетел вниз будто на катальной горке.
Его примеру последовали, волей-неволей, все; кто долетит до низу - там товарищи подхватят и на ноги поставят.
Казаки потешались ужасно:
- « - Ай маслянка!»
По мере того, как стали подходить к главному перевалу, подъемы и спуски становились все круче и круче; утомились и мы, и наши лошади, наконец выбрались на широкую долину; с нее Маркакуль виден во всей своей величавой красе: его синие воды, зеленая рамка лесов и амфитеатр каменистых и снеговых гор.
Тут нас встретил киргиз и передал мне просьбу мужа снять фотографию с этого пункта озера. Но задача оказалась нелегкая, надо было снимать на три стекла, пока же ставили палатку и проч., поднялся ветер с мелким снегом и мгновенно вся прелестная картина потускнела.
Полтора часа мы простояли, делая попытки снять в промежутки, когда переставал снег. Перепортила я стекол много, а толку не вышло никакого. Только все мы посинели, или, по казачьему выражению, почернели от холода. Хорошо еще, что один сострадательный челоказак, ехавший из Кобдо и расположившийся пить чай под горой, на которой мы снимали, поднялся к нам и угостил нас и наших провожатых.
Чай пили кирпичный, отвратительный, без сахару; вяленую баранину, которой он нас подчивал, дома и в рот бы не взяли, а тут обрадовались точно Бог знает чему. С семи часов утра, то работая с фотографией, то подвигаясь вперед, наполовину на рысях, по непризнаваемой просвещенными иностранцами за возможный путь сообщения дороге, - мы, к шести часам вечера, порядочно устали.
Но Маркакуль перед нами, а тут и ночлег. Каково же было наше разочарование, когда, дойдя в сумерках до Маркакуля. мы узнали, что ночлег на Маркакуле-то - верно, да только надо обогнуть около озера еще 17-ть верст! Совсем неприятный сюрприз.
Дорога пошла хотя и ровной, по болотистой местностью, а присланный нам навстречу А. просит скакать быстрее, чтоб, пока не совсем стемнело, пройти карниз над озером. Я помнила этот карниз, и как ни жаль мне было моих уставших детей, пришлось скакать.
Утомленные лошади спотыкаются, скользят, кажется, если б не стыдно, заплакала. Доскакали до карниза: хоть темно, но все же видно под ногами. Тут нас встретил продрогший, ожидая нас, Железнов: ему более, чем кому-нибудь, памятен карниз над Маркакулем; в прошлое наше путешествие он сорвался с него с лошадью, и катились кто куда, пока не завязли в кустах.
Перешли благополучию карниз, спустились к озеру и снова ударили по лошадям; проскакали и прошли рысью порядочное пространство, обогнали вьюки какого-то китайского чиновника, а ночлега все нет как нет. Совершенно стемнело; дорога пошла глинистая: у одного киргиза лошадь, поскользнувшись, упала.
Делать нечего, надо идти шагом. А тут, будто в насмешку над нами, стал моросить мелкий дождь. Справляемся у Железнова, давно ли пришли наши на ночлег. Оказалось, часа уже три-четыре, и с утра ничего в рот не брали, да и до сих пор есть нечего, так как кухня и повар недавно пришли.
Это уж окончательно было скверно. Хоть и не виноваты, а все же рассчитывать, чтоб голодные и измученные гости были довольны - трудно, а чтоб хозяин в таких обстоятельствах встретил хозяйку любезно - невозможно.
Все примолкли, только изредка перекидываются:
- «Мама! ты очень устала?»
- «Нет (совершенная ложь). А ты?»
- «Тоже нет», - отвечает слабенький, будто заглохший голосок Мани.
- «Саша! да подбери же повод».
Саша клюет носом и ворчит. У кого-нибудь лошадь споткнется; - слышится:
- «О черт!» - и щелканье нагайки.
- «Что, налима поймал?» - справляется усталый, охрипший голос, но с такой эхидной интонацией, будто падение товарища не возбуждает никакого чувства, кроме злобы.
Вот снова зашлепали лошади копытами по воде.
- «Еще ручей перейдем - и дома», - говорит Железнов.
Но это простое и утешительное замечание вызывает ряд самых ядовитых ответов. Наконец-то, наконец вдали, в темноте, сверкнули светлые точки; вот они растут все больше и ярче. Как будто и усталость и холод меньше; лошади положительно идут бодрее, даже казаки осипшими голосами затянули песню.
Вот пламенеют костры и с треском, огненными снопами, летят искры; около костров виднеются сбатованные лошади и толпящийся народ. Наши лошади заржали и прибавили шагу. На темном фоне вырисовались освещенные огнем юрты. Дома!
Муж и гости торопливо вышли нам навстречу. Они были сильно встревожены за нас; о голоде, неудовольствии нет и помину. Сразу все стали правы — и правые, и виноватые. Снова все уселись в столовой юрты в таком же хорошем расположении духа и веселом настроении, как и обыкновенно.
До нашего прихода успели закинуть 4 тони, небольшим неводом, который завозил киргиз, въезжавший в озеро, насколько лошадь могла идти не всплывая. Поймали множество ускучей, фунтов по 6-ти весу. Не только в озере кишела рыба, но и в речке Теректы, впадающей в него. Казаки руками и попонами наловили в ней несколько ведер хариусов. У
скуч чрезвычайно вкусная рыба, по определению д. Финша, новый вид форели. Множество киргизов съехались на Маркакуль за рыбой. Они ловили ее большею частью в Теректах, делая запруды. Приготовляли же ее самым первобытным способом, распластывали, вычищали и вялили на солнце, развешивая на тонких палочках.
Орлы также охотятся за рыбой, но выклевывают ей только глаза и бросают. На следующее утро мы узнали, что Брем, сделавший переход еще больше нашего, так как заезжал на Колджир, заболел. Решили остаться на месте до полудня, отобедать, и перейти верст двадцать на ночлег, на озере же.
В столовой юрте за утренним чаем прибавилось гостей: приехали китайские чиновники и неподданные, или, как казаки их называют, неверноподданные киргизы. Китайский чиновник презентовал несколько чашечек и разных лакомств.
Отведать их трудно было решиться, так они отзывались кунжутным маслом. Только сушеные фрукты были удобосъедобны. Поставили мою фотографическую палатку, и я, несмотря на серенький день и грозящий дождь, попробовала снимать.
Только думала я приняться за работу, ко мне подошел уездный начальник, прося показать приехавшим неверноподданным, что я снимаю картинки: они ужасно взволновались, увидя треногу и на ней машину.
- «Русские приходят - снимут машиной землю - и земля станет русская».
Лет двенадцать тому назад на партию наших топографов, снимавших местность, где теперь Зайсанский пост, напали киргизы, и только благодаря вмешательству Джан-Султана их не убили, хотя избили сильно. Чтоб окончательно успокоить наших гостей, я предложила снять их группой.
Пришлось с ними сесть и нашим, чтоб убедить, что в моей машине нет ничего вредного или опасного. Группа вышла удачно, и их очень удивило и позабавило, когда я им показала стекло, что они могли узнавать на нем друг друга. Но тут хлынул такой дождь, что мы разбежались по юртам, а машину и палатку, накрыв клеенкой и попонами, предоставили собственной участи.
Под дождем снялись мы с места и под дождем выступили. Переход был очень небольшой и легкий, за исключением одного серьезного спуска карнизом над озером. Несмотря на дождь, нещадно нас поливавший, и на то, что вершины гор были закрыты облаками, мы несколько раз останавливались, чтоб полюбоваться Маркакулем.
Его красивые заливы, покрытые густым лесом мысы, скалистые карнизы и декорация громадных гор представляют столько прелестных картин, что нельзя довольно насмотреться на него. Остановились на ночлег на поляне, среди небольшого леска, близ озера и, к величайшему сожалению, узнали, что люди, пришедшие незадолго до нас, с нашими юртами и вьюками, выгнали из этого леска двух медведей.
Если б сопровождавший юрты В. распорядился вовремя отрезать им дорогу в горы, могла выйти чудесная охота. Дождь продолжал лить. Нам как дамам уступили первую поставленную юрту, и хотя мы усердно приглашали всех наших спутников укрыться в нее, они церемонились; когда же наконец не выдержали и вошли, то в таком промокшем состоянии, что, казалось, единственное средство их просушить - развесить перед кострами с плащами и пледами.
Вскоре после присоединения их к нам, дождь перестал. Все принялись за дело, т. е. за просушиванье. У пылающего перед юртами костра, Брем просушивает свою подушку и, как всегда, распевает импровизации; около него Маня с шарфом, развешанным на поднятых руках, будто собралась станцевать блаженной памяти какое-нибудь pas; тут же Финш, с своей коротенькой трубочкой в зубах, и каким-то плащиком вроде барсовой шкуры; там Вальдбург и Железнов валят огромную лесину в костер, и сразу фейерверк освещает поляну; пламя змейками бежит по хвое; трещат сырые сучья и столбом летят искры в черное, от нависшего дыма, небо.
Около прочих костров тоже толпы. Всюду слышится хохот, шутки, песни, - на русском, немецком, английском, французском, киргизском языках, а если прибавить китайские песни, петые переводчиком, нашим добрым стариком Власовым, и арабские изречения из Корана, которыми время от времени угощал Брем приятеля своего Алтыбая, то, право, до смешения языков было недалеко.
Вальдбург спасал свои ботанические коллекции с истинным самоотвержением: он сохранял их, завертывая в свою шубу. Не знаю, много ли он сохранил, но сбор Мани почти весь погиб от сырости, несмотря на то, что она почти каждый вечер аккуратно перекладывала растения в сухую, т. е. в возможно сухую бумагу.
На другое утро Брем и Железнов уехали в горы искать вчерашних медведей. Финш был в восторге, что убил какую-то совершенно неизвестную ему пташку; мне показалось - вроде нашего воробья, только с белым ожерельем вокруг шеи и красненькой головкой.
На каждой стоянке пополнялись коллекции Бременской экспедиции и самими членами, и киргизами, и казаками, которые тащили им со всех сторон зверков, насекомых, птиц. Кстати тут упомянуть об слышанном нами обвинении, будто экспедиция скупо платила за доставляемые экземпляры.
Я могу сказать, что видела: они не бросали деньги, но платили за всех зверков и т. д., которых им приносили массами - нужных и ненужных. На этом ночлеге муж заболел лихорадкой. Киргизы, посланные разведать дорогу на Бурхат или Чурчут-асу, вернулись с неутешительным известием: броды через Курчум и Кара-Кабу немыслимы, вода слишком велика, о карнизе над Кабой думать страшно, особенно когда с нами несколько не вполне опытных ездоков да больной.
Оставалось идти Джеты-Кезенями, но и тут проводники сомневались, можно ли пройти, так как в лесах около перевалов снега слишком глубоки. Делать нечего, решили идти Кезенями. На следующее утро погода сжалилась над нами: дождь шел, но маленький.
До полдневки шли почти все время берегом озера; по нем плавали тучи водяной птицы, держась, впрочем, довольно далеко от берега. Цветов и кустарников в цвету собрали много. Саша нашел Вальдбургу великолепную орхидею.
Наконец мы отвернули от озера и выехали на громадную долину; по ней разбросаны были аулы; аулы виднелись и на высоте. Если бы кто вздумал подняться на эти высоты, то снова очутился бы на долине, на которой опять аулы, а над ними опять высятся горы.
Вот уж подлинно:
- «А за тою за горою - лес да гора; а за теми за лесами - горы да леса».
Здесь мы встретили человек сорок крестьян из горных деревень Берельской долины, едущих за рыбой на Маркакуль. Тем, что озеро лежит в китайских пределах, они, кажется, мало стесняются, да и вообще кроме своей воли мало чем стесняются.
Народ развитой, большею частью зажиточный; лихие стрелки и охотники, они держатся в отношении своего начальства более чем независимо, да и начальство-то у них за горами и лесами! Волостное правление (в Солоновке) от них в 200 верстах, бийский исправник в 700, становой (в Согре) в 400, да каких верстах!
Весной и осенью в их деревни положительно нет проезда, а зимой и летом проберется только тот, кто может сделать это путешествие верхом, или на лыжах, не стесняясь ни карнизами, ни бродами, ни морозами, ни снежными буранами.
Да надо, чтоб и проводники были из местных. Недаром же сюда стали уходить со времен Екатерины II раскольники, - иные, отыскивая легендарное Беловодье, другие - от ненавистного для них начальства, до сих пор в трущобах (чернети, как они называют) Большого Алтая, безопасно для беглых.
До сих пор в самых неприступных местах есть избушки-кельи, в которых спасаются отрекшиеся от мира. Кто бы ни пришел к ним просить убежища, не спрашивая кто и откуда, они дают приют и хлеб. Хлеб сделан из древесной коры и ягод калины или черемхи, даже с косточками, с небольшой примесью муки!
Я видела такой хлеб: он тверд как камень; не понимаю, как можно жить, питаясь им. Правда, что Алтай так богат и зверем, и птицей, и рыбой, и всякими ягодами, что пропитаться в нем можно. К тому же кругом горы покрыты их любимым алтай-чаем (баданом).
Иногда в непроходимом лесу случайно набредут на избушку, толкнутся в дверь, в избушке лежит скелет.
- «Давно, значит, умер, сердечный, и схоронить было некому».
Кто набредет, тот и схоронит. До сих пор между крестьянами этих деревень полный самосуд, особенно в отношении киргиз. Пытать киргиз - дело обыкновенное. Это лето я видела киргиза, которого пытали два года тому назад в числе двух других, подозреваемых в краже лошадей.
Рассказ про это дело был очень наивен и обстоятелен: в деревне у одного мужика свели пару лошадей; эти киргизы были тут же в деревне в работниках (у крестьян, казаков и особенно на золотых промыслах в Семипалатинской области, все работники киргизы).
Заподозрили киргиз в краже лошадей, взяли да и стали пытать. Притянули веревкой киргизу пятки к затылку, другую веревку привязали в избе к балке: подтянут киргиза к потолку и начнут крутить - крутят, крутят, хватят об пол, да сызнова.
Пытали, пытали, а лошадей-то и нашли тут же у своего мужика.
- «Ну, что же?»
- «Ничего, - двое помирились, один пошел жаловаться».
- «Что же?»
- «А что, ничего, - два года дело то идет и конца ему не видно. Да то ли еще бывает!»
- Да как и не бывать-то? Если самосудом не рассудишься, кто же рассудит? Терпеть пока терпится, потому самосуд тоже бедовое дело, до убийства недалеко. А там что? Да, все тоже. Если к начальству - годами тянуть да тягать будут. А начальству что делать? Которое близко, не наше, - рассудить права не имеет, - а своего и в глаза не видали.
Второстепенные блюстители правосудия в свою очередь говорят: «С нас требуют исполнения наших обязанностей, а как их исполнишь? Пришло лето, можно бы объехать округ, а тут бумага: „Приготовить к проезду“. Пошла починка мостов, исправление дорог, приготовление лошадей; надо их съездить, подъяровать, а то или не пойдут, как требуют, по 20-ти верст в час, или передохнут.
Затем скачи „встречать и сопровождать“, а тут пришло известие, что в такой-то деревне мертвое тело, надо следствие делать; не управился с этими делами, другое начальство едет, опять приготовлять, встречать и сопровождать.
А кроме главного начальства, сколько еще-то едет: и генералы из Петербурга, и медицинский инспектор, и инженер, и прокуроры, и советники, и по особым поручениям, и о всяком бумага:
- „Позаботиться о проезде“.
Да несет-то их в что ни есть рабочую пору. А сколько лошадей загонят в лето под начальством? Совестливый - так в жары не погоняет, а у кого совести нет, что с него возьмешь? Попробуй сунуться с почтовыми правилами: по 10-ти верст в час, да 25 руб. за загнанную лошадь - так и сам света Божьего не взвидишь.
Вот провалило начальство; думаешь ехать мертвое тело поднимать, а тут донесение, что там-то деревня выгорела. Где ж тут дела разбирать? А округ-то 32 волости, из конца в конец 800 верст. До дальних мест и во веки не доберешься, а за глаза, суди не суди, толк не велик.
Да притом и нашего брата всякого бывало: иные в эти места и нос показать боялись». Умный, предприимчивый, лихой народ крестьяне-зверовщики, но начальству с ними сладить мудрено. Я знаю случаи, когда за истязание киргиз сунулись было в их деревни делать суд и расправу; они приняли своего блюстителя правосудия так, что он благородно ретировался - и только.
Между крестьянами много есть и пришлого народу, отставных солдат и т. д., принятых миром. Все крестьяне, по крайней мере деревень Черновой, Белой, Березовки и т. д., по Бухтарме и Берели, исключительно староверы. Киргизов они хоть и называют «тамыр» (друг) и с богатыми водят знакомство и дружбу, бедных нанимают в работники, но притесняют ужасно.
Вот два самые употребительные способа притеснять киргиз. Какой-нибудь проходимец из крестьян или из пришлецов, приписавшихся к обществу, заручается у томского начальства позволением «селиться» на таком-то месте. В бумаге местность обозначена довольно неясно, количество же земли, которое разрешено занять, - и вовсе не обозначено.
Приходит сей переселенец, чтоб, как они говорят, облюбовать землю, и выбирает для земледельца никуда не годную, так как хлеб не родится так высоко в горах. Ставит наскоро избушку на курьих ножках и сидит в ней как паук, подкарауливающий мух в свои тенета.
Мухи не замедлят попасть. Избушка поставлена как раз среди киргизских пастбищ. Начинается бесконечная история. «Поселенец» гонит киргизов с их пастбищ, и на заверения, что они спокон века пользуются ими, — вытаскивает «бумагу» (по-сибирски, гумагу), указывает перстом на нее, потом на окружные горы и долы.
- «И это мое, и это, и это!»
Киргизы без пастбищ пропали: откочевать некуда; все места заняты, да к тому же необходимо, чтоб весной и летом пастбища были на известной высоте, где нет гнуса (по-сибирски, т. е. овода, строки и т. д.). Делать нечего, стараются войти с поселенцем-пауком в соглашение; тот обирает их как может и затем снова гонит.
Киргизы жалуются своему начальству, напоминают, что когда их приняли в подданство, им обещали сохранить за ними занимаемые ими урочища, что подати и натуральные повинности исполняют исправно, жертвуют на все, что предписывают (и на гимназии, и на благотворительные учреждения, если не ошибаюсь, и на Сибирский университет), что под новые казачьи станицы - Алтайскую, Уральскую (Урыльскую (Урульскую). - rus_turk.), Чистый Яр и проч. - они отдали много земель, и если у них отнимут пастбища на правом берегу Бухтармы (никому, кстати, не нужные и гнившие задаром в позапрошлом году после изгнания киргизов), то Чингистайская волость потеряет весь свой скот, а все благосостояние и средства к жизни у киргизов в скоте и табунах.
Начальство хоть и сознает, что киргизы дело просят, а как помочь? правая сторона Бухтармы - Томская губерния. Пишут томскому начальству, но, вероятно, крестьянские просьбы убедительней. Пауки остаются в прежней силе. Наконец выведенные из терпенья киргизы пробуют оказать сопротивление паукам; тогда те, с помощью приятелей, хватают того, кто действует смелее, увозят в свои деревни, пытают, приковывают к стене; бывали случаи убийства.
Снова семипалатинское начальство пишет томскому.
Идет, идет переписка, терпят, терпят киргизы: и расправились бы, пожалуй, - деревни сжечь нехитро - да свое начальство держит за руки. Успокоивают их:
- «Вот приедет барин, барин вас рассудит».
Но тщетно ждали киргизы, а вышел приказ:
- «Выгнать киргиз с правой стороны Бухтармы и уничтожить их зимовки».
Выгнали. Мы как раз проезжали в это лето по Бухтарминской долине. Те места, которые береглись чингистайцами для корма зимой, так как на них не бывает глубокого снега, вытравлены были уже в августе месяце. К тому же обобраны были киргизы крестьянами бессовестно.
Зимовки их (у некоторых были хорошие дома) пошли даром. Но как только их выгнали, пауки явились «тамырами»: это, мол, все начальство, а мы вас пустим; знаем, что без корма вам невозможно; дайте нам столько-то кошем, баранов и т. д.
Что делать? крайность! Дали. Но не успели перегнать скот на заповедную правую сторону Бухтармы - напускаются те же пауки. Ну и прогнали обратно. Понурые, унылые встречали нас бедные чингистайцы, хотя вполне еще дружественно; а нам, нам совестно было смотреть им в глаза.
Православные, просвещенные «уруссы» так не по-христиански, бесчеловечно с ними поступают, и помочь их горю нечем: до Бога высоко, до Царя далеко. Этой же осенью мы уехали в Петербург и слышали, что Чингистайская волость потеряла в зиму половину своего скота.
Что сталось с ними дальше - не знаю. Верно, жутко пришлось, да и не одним чингистайцам, а и соседним с ними волостям Алтайской и Нарымской, если бежали в Китай и сопротивлялись вооруженной силой. Когда же зайсанский пристав пошел их «возвращать» с артиллерией, стрелковой ротой, казаками и ракетным станком, они, после отчаянной схватки с казачьей полусотней, отхватившей их табун (Недавно мы читали в «Новом времени» описание этого дела; там говорится, что киргизы зверски дрались с казаками! Правда, из полусотни - 24 казака убито и 11-ть тяжело ранено; но главное зверство, что у убитых казаков изрублены носы, уши, пятки, обезображены лица.
Киргизы дерутся холодным оружием и потому неминуемо должны быть и раны, соответственные оружию. Их оружие: айбалта - род секиры или топора с длинной рукояткой, вдоль которой вделаны два лезвия, чтоб обороняющийся не мог хвататься за нее руками; затем, найза, копье на тонком, длинном древке, с большою костью немного отступя от копья, чтоб слишком глубоко не вонзалось и давало возможность выдернуть копье из раненого неприятеля.
Оружие же «айбакан», т. е. бакан, представившееся таким страшным корреспонденту «Нового времени», не более как жердь с раздвоенным тупым концом, которым поддерживают чанарак при постановке юрты. Им дрались, вероятно, бабы.
Редко-редко у кого из киргизов найдется фитильное ружье. У таргоутов, действительно, мы видали отличные кавказские винтовки.), побросали юрты, скот и вплавь переправились через Бурчум. Много из них тут погибли. Тут были и женщины, и дети.
На выручку Чиндагатуйского пикета, где стояли казаки-буряты, далеко, кажется, не воинственные, подоспели крестьяне из Березовки, освободили пикет из засады, киргиз же вернуть не вернули, но нагнали несколько кочей, ограбили их и, говорят, убили несколько человек.
Чем все это окончится - неизвестно. Убежавшие киргизы сделали «бату», т. е. прочитали молитву и решили лечь до последнего, но не сдаваться. Говорят, что доведенный до раздражения и заяц опасен. Второй способ притеснения киргизов следующий.
У киргиза никогда нет наличных денег; ко времени взноса подати он берет взаймы у крестьян, татар, русских, и обязуется, большею частью, уплатить им баранами. Настоящая цена барана два рубля, а заимодавцы ценят барана в рубль, итого берут процентов рубль на рубль.
Случается, что крестьянин раза по три требует плату за один и тот же долг. Устроили ссудные кассы для киргизов; дело пошло отлично, но благодетельная, кабинетная администрация предписала уничтожить уездные ссудные кассы и приказала завести такую длинную и сложную процедуру, и все с бумагописанием, т. е. тратой денег (кто же станет даром писать, а киргизы безграмотные), что бедным киргизам пришлось отказаться от этого благодетельного учреждения, и им если пользуется кто из киргиз, то разве богатые.
Мой муж сильно отстаивал интересы эксплуатируемых или притесняемых киргизов и вел за них войну с крестьянами, но несмотря на это крестьяне-зверовщики относились к нему не только не враждебно, но с почтением и истинным или притворным радушием.
Они охотно шли к нам проводниками, когда мы ходили в горы; раз, когда вода Бухтармы неожиданно прибыла, и нам надо было переправляться вплавь, что опасно, крестьяне собрались за несколько верст от своей деревни с лодками, и нас перевезли.
Случалось, что обращались к мужу с такими просьбами:
- «Ты прикажи нашему-то».
И на ответ мужа, как он может приказывать такому же губернатору, как и сам, - недоверчиво качали головами и не хотели верить, что гражданский генерал может быть такая же особа, как военный. Кажется, им нравилось, что муж сам охотник и хороший стрелок.
Между крестьянами, едущими на Маркакуль, был наш знакомый Ларионов, бывший наш вожак в 1870 году. Он успокоил нас, сказав, что они прошли Кезенями и хоть не шибко хорошо, снега велики, а все же сполитичнее тут идти, чем Кабой - там вовсе прохода нет.
Вскоре присоединились к нам и Брем с Железновым, вернувшиеся с охоты за вчерашними медведями, разумеется, неуспешной. Железнов опять обрушился с лошадью на какой-то круче. Брем заявлял, что ездить с ним по лесу и кручам невозможное дело, - он лезет в совершенно немыслимые места.
Железнов же, со свойственной ему в этих случаях флегмой, отвечал, что лошаденка у него была дрянь, - оттого и сорвалась. После привала мы вошли в ущелье и скоро стали подыматься на первый кезень (перевал). Все лужайки были покрыты красивыми цветами кандыка.
Ботуну (дикого луку) тоже было множество. Казаки набрали его целые охабки. Поднявшись на кезень, я решилась воспользоваться проясневшей погодой, так как только тем и утешалась на бесполезно двигавшуюся за мной фотографию, что вот на следующий день, в хорошую погоду, сниму и этот вид, и этот, а в сущности в негативном ящике не было почти ничего: что и снимала - попортилось от дождя.
Поставили палатку и камеру. Виды кругом были так хороши, что не знаешь, на чем остановиться. Хотелось бы снять ясно всю эту панораму, но с моей маленькой камерой и крупно берущим объективом об этом и думать нечего.
Сняла я два негатива, из которых уцелел один, другой же при фиксировке съехал со стекла, и я должна была снова сложить фотографию. В горах пошел снег, и верхняя часть пейзажа задернулась будто белым занавесом. Сели мы на лошадей, спустились с кезеня, проскакали долиной, перебрели через Сорвенка, приток Кара-Кабы (Русское название Кара-Кабы Сорва, - оттого, поясняли зверовщики, что при переходе через нее вброд срывается лошадь.), - и полезли на второй кезень.
Этот перевал был очень высок и крут, но грунт на нем удобный, - не каменистый, не глинистый, и лошади, несмотря на крутизну подъема, идут свободно. Спуск же с этого кезеня был отличный: широкий карниз, точно шоссе, обрамленный с одной стороны красивым лесом и кустами - будто дорожка в парке.
Погода разъяснилась, с каждым поворотом нам открывались новые, чудные картины, которым эффектное вечернее солнечное освещение придавало еще более блеску и красоты. Придя к нашим юртам, мы узнали, что у нас трое больных: мой муж, старик Власов и Железнов.
У мужа лихорадка, у тех захватило горло. - Вот моя фотография и пошла в ход: больным я вымазала горло тинктурой иода, что стекла полируют; на все же общество пожертвовала бутылку спирта из фотографии же, так как взятый с собой запас вина и водки вышел.
Разбавили спирт водой, подали его к обеду, но, увы, кто ни попробует - сморщится и поставит чарку обратно; даже Вальдбург, заявивший, что кто убьет человека, может быть прощен, кто прольет каплю вина - никогда! - и тот попробовав воскликнул:
- «Not to drink!»
Но иод воздействовал чудесно: Власов на другой день мог поворачивать шею, а Железнов меньше хрипел.
- Хоть на что-нибудь да пригодилась фотография!
У Брема завелся приятель - киргизская собака. Действительно, Аранка, как ее звали, не отходила от Брема. Он хотел увезти ее с собой, но на Чингистае, откуда поехали в экипажах, Аранка как истый киргиз за экипажем — незнакомой машиной, не пошла, а пристроилась к казакам; осенью мы видели ее в отряде, разъевшуюся, красивую; - она тотчас нас узнала и бросилась ласкаться.
И теперь она известна под именем «Бремовской Аранки». В ночь выпало на вершок снегу. Теперь мы шли не под дождем, как последние дни, а под снегом и по снегу - все же лучше. Взобравшись на третий кезень, мы пошли узким гребнем: с правой стороны он круто обрывался к Кара-Кабе, едва видневшейся на дне пропасти; с левой - зеленым скатом в глубокий овраг.
Жаль, что виды вниз пропадали, закрытые густым туманом. Везде кругом нас, по соседним горам, ползли облака; вот начинает отдираться облачко - поднялось и открылись темные скалы или густая кедровая чернеть, где сверкнет снеговая залежь или вершина. Но долго любоваться видами не пришлось.
Начался спуск, и серьезный. Мы вышли на край обрыва к Кара-Кабе. покрытой лесом и заваленной снегом, футов в 1050, может быть, и более вышины, и крутизной до 60 градусов. Снизу этот обрыв казался вертикальной стеной, и по этой-то стене, между громадными деревьями, огибая выдавшиеся скалы и выходя на карнизы, шла узкая тропинка, по которой надо было спускаться.
Главное затруднение, пожалуй, опасность, кроме страшной крутизны, состояла в том, что местами между деревьями были глубокие залежи снега. Лошади не шли, а, проваливаясь по брюхо, барахтались и выбивались прыжками; в иных местах снег выбит крутыми, полуаршинными ступенями, по которым лошадь не может иначе спускаться, как спрыгивая передними ногами зараз и сползая на задних; карнизы скользкие от растоптанного снега и глины.
Тут, на солнечном припеке, на скале, мы нашли великолепный бадан в цветуСамое трудное место было перед концом, и если б киргизы с Чингистайского пикета, заслышав, что мы идем, не приехали и не расчистили самую глубокую массу снега, - не знаю, как бы мы и выбрались из нее.
Вальдбург сошел этот спуск с нами верхом. Пока нам справляли седла и подпруги. мы смотрели на остальной наш караван, ползущий по спуску. Впереди всех, уже почти догоняя нас, идет в своем «поншо», Брем (Брем, как опытный путешественник по горам, имел сапоги, употребляемые обыкновенно в Альпах, с гвоздями и крючками на каблуках и носках.), не стесняясь ни кручами, ни снегом, идет быстро, свободно, и все время поет импровизации.
Несколько дальше Финш в малиновых киргизских чембарах, особенном каком-то плюшевом плащике в виде барсовой шкуры и сапогах с такими же отворотами; - далее тяжело спускается мой муж, опираясь на плечо своего джигита: ему сильно нездоровилось и голова кружилась на кручах.
По карнизам и между деревьями тянутся вереницей вьючные лошади и ведущие их лаучи в мохнатых малахаях. Между пешеходами вертится и суетится наш с Маней джигит, Джиембай, - маленький, худенький, с лисьей мордочкой, в остроконечной меховой шапочке и стеганом одеяльце, наподобие плаща Финша, на плечах: - то он предлагает кому-нибудь руку, чтоб перевести через худое место, то просит, чтоб муж сел ему на плечи, что он спустит на себе, - наконец сам споткнулся и покатился.
Этот Джиембай памятен мне оригинальным способом утешения, придуманным им для своей жены: они потеряли двоих и единственных детей на одной неделе скарлатиной; жена его до того плакала, что, по словам его, почти ослепла.
- «Я-с возму-с второй жена - чтоб ей-с не так скучно-с было».
Спустившись с этого кезеня, мы прошли долиной и стали у самого подъема на Бурхат, на высоте 7 т. футов. Пришли мы довольно рано, и после завтрака все принялись за свои обычные занятия: Брем расспрашивал киргиз и записывал, Финш возился с своей коллекцией, Вальдбург и Маня с гербариями, я с фотографией и т. д.
Киргизы, видя, как Финш препарирует птиц, прозвали его Бовар, т. е. повар, Брема же «Улькун-немец» (большой немец) и Зор-Мурун (большой нос). На следующее утро все наши уехали на охоту на тау-теке (горных козлов). Охота была неудачна, хотя накануне киргизы убили в этих же местах несколько козлов.
Теперь Железнов в свою очередь жаловался, что ходить по горам пешком с д. Бремом невозможно, - не угоняешься. После завтрака стали подыматься на Бурхат; некрасив он с этой стороны: голые, безлесные, каменистые подъемы и спуски, только хорошего, что лужайки, усыпанные крупными, великолепными анютиными глазками, желтыми, белыми, лиловыми и почти черными.
Изредка попадались и генцианы. Наконец пришли на перевал, высотою 8 000 футов, где красуются пограничные знаки - русский и китайский: две груды камней с вертикально торчащим камнем посредине. К этим знакам надо относиться с особым уважением.
По силе трактатов, каждое лето приезжает на границу русский и китайский чиновники «поверять столбы». Было ясно, и мы надеялись увидеть Белуху во всей красе и величии, но не успели перейти перевал, пошел снег и одна из великолепнейших панорам пропала; тем более было досадно, что мне хотелось показать ее нашим гостям.
Спуск с Бурхата был отвратительный, мокрый, грязный, скользкий: рады-рады были, когда выбрались из камней; до половины спуск идет по каменистой осыпи. Удивительно, как лошади не поломают себе ног! На этот раз и Вальдбург отстал от нас и присоединился к пешим.
Когда мы вошли в лесистую часть спуска, где между кедрами были целые стены еще зимнего снега, а дорога и мы занесены валящими с неба хлопьями снежного бурана, можно было подумать, что мы находимся среди глубокой зимы, если б не выглядывавшие из-под свежевыпавшего снега яркие розовые, золотистые, лиловые цветы.
Чем ниже спускались мы с Бурхата, тем растительность становилась роскошнее. Наконец мы вышли из кедрового леса, и из самой глубокой зимы попали в цветущее, в полном разгаре, лето. Луга - как ковер из разнообразнейших цветов; громадные, аршина в полтора, кусты пионов (марьин корень, по-сибирски) буквально были усыпаны крупными, вершка в три в диаметре, пунцовыми и малиновыми цветами.
У подножия Бурхата нас встретили киргизы, и пока укладывали экипажи, т. е. два маленькие тарантаса и несколько телег, мы вошли в приготовленную юрту, и, разумеется, нас угощали бараниной и чаем. Тут мы попрощались и роздали подарки сопровождавшим нас проводникам - джигитам и лаучам.
Приехали мы в Котон-Карагай поздно вечером и под проливным дождем, - видим ряд богато убранных и ярко освещенных юрт, и против них скромные котонские домики; разумеется, все предпочли домики. Особенно восхитили наших гостей лежанки, на которых так удобно сушить коллекции.
На другой день утром в большой юрте собралось все котонское общество: П. М. Халдеев и А. И. Вяхирев сказали гостям приветствие и просили принять на память выставленные в юрте образцы мехов и местных произведений.
Нам с Маней поднесли великолепные букеты в китайских вазочках. Брем, по просьбе Финша и Вальдбурга, ответил прекрасной речью, которую тут же за ним переводил один из членов общества по-русски. Затем у нас был большой обед, т. е. в том смысле, что было много народу.
К нашему обществу присоединились приехавший на встречу экспедиции начальник Зыряновского рудника, г-н Бастрыгин, и явившийся «встречать и сопровождать» их заседатель. На следующее утро муж и гости уехали осматривать Зыряновский рудник, а мы на Верхнюю пристань.
Единственными замечательными эпизодами было то, что дождя не было, что я сняла несколько удачных негативов и что, к крайнему удивлению, нашему, мы встретили на станции, в деревне Таловке, нескольких крестьян, интересующихся политикой.
От проезжих или из случайно занесенных газет они знали об войне Сербии с Турцией. Спрашивали - нет ли у нас газеты и какие оттуда известия.
Между прочим были и такие суждения:
- «Что ж это наш Белый Царь не вступается - ведь православные».
Были тут и солдатики, знавшие Черняева и в Туркестане:
- «3а правое дело стоит, - его и там, как и у нас, солдатская молитва сбережет».
На Верхней пристани мы дождались наших и на следующее утро в 6 часов утра плыли на карбазе по Быстрому Иртышу. Обыкновенно это самый ужасный способ путешествия. Карбаз, большая лодка, употребляемая здесь для перевозки руды (руду привозят из Зыряновского рудника на телегах и грузят на Верхней пристани в карбазы и сплавляют в Усть-Каменогорск, оттуда снова перевозят на волах и лошадях в Змеиногорск, где руда уже выработалась, так что там заводы обработывают привозную Зыряновскую руду).
Посредине карбаза небольшой выпуклый помост над крошечной каюткой, куда складывают рабочие хлеб; укрыться в нее от дождя едва бы можно одному, много двоим; бортов нет и барказ сидит так глубоко в воде, что при сильном волнении его заливает: надо приставать к берегу и пережидать, а это не всегда возможно, так как местами скалы сходят к реке стеной.
На всем пути до Усть-Каменогорска всего три зимовки, т. е. жилые места, где в крайнем случае можно найти хлеба и приют. Случается, что за погодой приходится несколько раз приставать к берегу и пережидать, идя вместо 10-12 часов, по несколько суток.
На этот раз мы плыли на хорошем карбазе горного начальства, с бортами, лавками, палаткой и крошечной плитой на корме, дающей возможность приготовить обед. Тарантасы наши и люди плыли еще на нескольких карбазах. Погода простояла отличная.
Первое из наших плаваний по Быстрому Иртышу оставившее приятное впечатление. Иртыш между Бухтармой и Усть-Каменогорском действительно красив. Сжатые между громадными скалами, местами представляющими живописные ущелья, поросшие богатой растительностью, местами грозные, отвесные стены, воды его то стремятся, как бы спеша вырваться на простор, то разбегаются несколькими рукавами между зелеными островами. Местные жители уверяют, что особый шум слышимый при плаванье по Быстрому Иртышу, отдельно от вплеска весел и журчанья воды под килем, - будто это шум гальки, которую быстрота течения катит по дну.
Члены экспедиции нашли на Быстром Иртыше новую для них породу галок, красноносых и вьющих гнезда в скалах; еще новую же породу стрижей. Разумеется, варили неизбежную при этом плаванье стерляжью уху. Брем во время этого пути перевел стихами киргизскую песню.
Финш набрасывал карандашом эскизы. Наконец, достали «Фауста» и Брем читал нам его. Таким образом незаметно приплыли к Усть-Каменогорску. Наша скромная Усть-Каменка смотрела очень празднично: на скалах около пристани сидели красивые группы татарок в пестрых, ярких нарядах; на пристани много народу, экипажей, верховых.
На следующее утро мы собрались в последний раз на прощальный завтрак к П. М. Халдееву. Не знаем, какое впечатление вынесли наши гости из прогулки по Алтаю; для нас же она будет одним из приятнейших воспоминаний нашей жизни в Сибири.
Л. П–я.
Источник:
Л. К. Полторацкая. "Бременская экспедиция в Семипалатинской области". Природа и охота. 1879 год. № 3.
https://rus-turk.livejournal.com/593997.html







