Вы здесь
Н. Н. Пальгов. По Тянь-Шаньским сыртам.1929 год.
Верховья рек Нарына, Ак-Шийряка, Иирташа.
Путешествия Пальгова в горах Тянь-Шаня.
Между хребтом Кок-Шаал, являющимся главною цепью Тянь-Шаня, и горами Терскей Ала-Тау, возвышающимися к югу от живописного и величественного озера Иссык-Куля, лежит ряд крупных массивов, обособленных друг от друга долинами и ущельями рек, простирающимися в разных направлениях.
Центральное место в группе этих массивов занимают горы Ак-Шийряк. С запада и северо-запада у их подножия протекает исток Нарына река Кум-Тер; с юга приток того же Нарына р. Кара-Сай и еще небольшая, зарывшаяся-в крутые отвесные берега р. Тез, впадающая в Иштык; с юго-востока р. Ак-Таш, сливающаяся с Коянды - притоком Ак-Шийряка; с востока и северо-востока, отделяя массив от гор Куйлю-Тау и от части хребта Терскей Ала-Тау, - река Иирташ.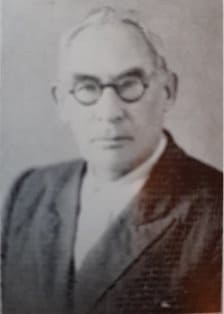
На северо-западе в истоках. Кум-Тера массив Ак-Шийряк окаймляется высокогорной моренной котловиной, изобилующей озерами, сазами и ручьями. Последние стекают к ней как с самого Ак-Шийряка - из многочисленных ледников, залегающих в его ущельях, так и со стороны Терскей Ала-Тау, где их началом также служат ледяные поля и глетчеры.
Мой маршрут, относящийся к лету 1929 году, был начат со стороны реки Нарына. Я направился вверх по Кара-Саю, имея с левой стороны слегка прикрытые снегом южные склоны Ак-Шийряка, а с правой глубоко заваленные сугробами северные склоны менее высокого хребта Борколдоя.
Река Кара-Сай течет в широком галечниковом русле, по обе стороны которого расстилаются просторные зеленые берега. Ширина долины в районе притока Чакыр-Корум достигает не менее 5 км. Правая сторона ее сопровождается отлогой невысокой грядой, очень похожей на древнюю морену.
На левой стороне со склонов Борколдоя примыкают к руслу реки пологие травянистые увалы, среди которых часто поднимаются высокие шатровидные бугры, покрытые, где каменистыми россыпями, а где густой сочной растительностью.
В одном месте по зеленым склонам обнажаются многочисленные выходы белого камня, давшие киргизам основание назвать этот район Ак-Таш. Белый камень представляет собою известняк, по плотности приближающийся к мрамору.
За рекой Туюк Чакыр-Корум находится совет джайляу. Долина Кара- Сая - одна из самых населенных в Центральном Тянь-Шане. В районе наибольшей густоты населения и расположился совет. При нем больница, кооператив и школа. Все это размещается в юртах, скученных на ровной прибрежной площадке около воды.
Красно-белый флаг с красным крестом на белом поле, развевающийся на длинном шесте, прикрепленном к больничной юрте, еще издали дает знать, что здесь не обычный аул кочующей группы киргизов. Путешественником А. В. Каульбарсом в хребте Борколдой указывается особо выдающаяся вершина - гора Екатеринская, которая была замечена им из долины Кара-Сая.
Означенная вершина по описанию Каульбарса отмечается резко выделяется высотою и конусообразной формой наподобие вулканической. Однако горы Екатеринской мне видеть не удалось. Очевидно, она принадлежит не хребту Борколдою, а соседнему с ним по южной стороне хребту Кок-Шаалу.
Что касается вершин Борколдоя, то они ничем не отличаются от обычных снежных вершин: то это продолговатые ребристые гребни, то округлые сопки с пологими скатами, то скалистые пики с боками различной крутизны. Все это покрыто снегом, висячими ледниками и плотными фирновыми навесами.
Выше совета джайляу тропа переходит на правый берег реки Кара-Сай разливается здесь на несколько широких потоков, давая возможность переправляться в брод в любое время дня и лета. Вода выше колен лошади, течение быстрое, переправа легкая.
На противоположном берегу встречаем охотника на сурков. Охотник вытянулся на земле, поставив ружье на козлы и выжидающе направив дуло куда-то в пространство. В стороне лежит вол, лениво пощипывая траву. Нигде никакой дичи не видно.
Вследствие того, что ружье было прочно приспособлено к одному направлению, было очевидно, что выстрел последует только тогда, когда сурок или какое другое животное подставят себя сами под дуло. Дни 3 и 4 августа отличались облачностью, легкий ветерок с юго-запада иногда нагонял дождевые тучи.
Днем температура воздуха достигала 15 - 17° С, а к вечеру и по утрам спускалась до 8 - 10°. 4-го вечером облачность достигла максимума. Довольно сильный пронизывающий ветер гнал облака низко над землею с запада на восток. Температура опустилась до 4,5°.
Чувствовалось, что будет непогода. Мы остановились около озера Патер-Бешик. Это - небольшое в несколько кв км озеро, образовавшееся во впадине среди древних моренных отложений. Низменные берега, местами с каймой из отложений гальки и щебня, топорщились заросшими кочками.
На середине озера плавала стая отаек (птица огарь – А.П.). Утром 5 августа разыгралась мятель, продолжавшаяся и на следующий день. Снеговой покров достиг 0,24 м в толщину, а температура 0° вечером и утром и 5° в полдень. Когда тучи удалились, яркая белизна снега, отдавая нестерпимым блеском, раздражающее влияла на зрение.
Появились киргизы с заболевшими от того глазами. За Патер-Бешиком есть еще одно такое же озеро, но несколько меньших размеров. Незаметно для себя мы перевалили из бассейна Сыр-Дарьи в бассейн р. Тарима. Плоское плато сазов отделяет верховья Кара-Сая, принадлежащего к первому бассейну.
Река Тез берет начало из сазов. На двухверстной военно-топографической карте большая часть ее течения изображена пунктиром, но этот условный знак неопределенности не повсюду вызывается достаточными основаниями.
Верховья Теза представляют вполне отчетливые тихие и маленькие ручьи, медленно пробирающиеся по неглубоким ложбинам. Кругом скудные травою, но. обильные влагой пастбища. Ниже река Тез промывает себе путь в известняковых породах и образует глубокий отвесный каньон.
Издали, со стороны, этот каньон скрадывается перспективой так, что о его присутствии не догадывается до тех пор, пока не приблизишься к самому берегу. Тропа, ведущая в долину Ак-Шийряка, идет не по реке Тезу, где этому препятствует каньон, а по левой стороне от последнего, подтягиваясь ближе к склонам гор Ак-Шийряка.
Эти склоны довольно голые и пустынные. Прорезая их, тянутся одно за другим, параллельно друг другу через каждые 2 - 3 километра, небольшие открытые ущелья с белеющими полувисячими ледниками или снежными полями в вершинах.
Спускаясь ниже, ущелья переходят в глубокие и широкие лога, берега которых своим округлым видом очень походят на береговые древние морены. Нет никакого сомнения, что в создании рельефа здесь участвовали ледниковые процессы.
Русла логов обладают спокойным уклоном. Боковые поверхности их по большей части покрыты глинистыми отложениями, из-под которых в местах размытия торчат обломки камней. На одном из склонов виднеется характерная курчавая скала, так называемая „бараний лоб“.
По дну логов текут маленькие ручьи, в часы таяния ледников, несколько увеличивающиеся в размере. Некоторые лога были совершенно сухи. Вода уже в верхних частях их фильтруется в галечниково-песчаное дно, не имея сил продвинуться дальше.
Вследствие значительного числа логов (не менее 20) путь от верховий Теза до р. Коянды (по Каульбарсу-Куян-су) на протяжении около 40 км отнимает времени больше обычного. Киргизское население здесь не густо. Нам встретились 5 - 6 аулов, избравших своим местоположением наиболее широкие и травянистые низовья логов.
В долину Коянды мы спустились по каменистому косогору крутого и высокого ската, сложенного из плотного кремнистого песчаника. Гора, к отрогу которой относится этот скат, имеет на 10-верстной карте отметку в 18 799 футов.
В действительности же высота ее не превышает многих других вершин Ак-Шийряка. Столь значительная отметка есть просто опечатка, которые встречаются нередко на военно-топографических планшетах. Продвигаясь вверх по долине Коянды, мы вскоре встретили древние конечные морены, сильно размытые, но задерневелые, покрытые зеленью.
Высота их не превышает 15 - 20 м. Несколько дальше, на слегка выдающемся мыске левого берега реки, находится древний могильник. Возле могил высятся каменные вертикально поставленные плиты. Очевидно, это торсы каменных баб, но изображения на них совершенно выветрились.
Река Коанди (Коянды) течет одним мощным потоком в сравнительно нешироком и неглубоком русле. Редко где разделяется она на два и более протоков, да и то ненадолго. Долина, покрытая низенькой и редкой травой, имеет в ширину около километра.
Много камней и валунов. Часто встречаются поля галечниковых отложений, нанесенных боковыми притоками. Вдоль обоих берегов тянутся древние морены с многочисленными валунами на поверхности. На левом берегу морены выступают отчетливее, чем на правом.
Здесь явственно выделяются два вала. Оба идут прерывисто-ломаными линиями и местами со слабо заметными плечами. Последнее обстоятельство допускает возможность наличия большего числа оледенений, хотя с уверенностью этого сказать нельзя.
В 3 - 4 км вверх по течению от района перевала Ишигарт, где над долиной Коянды между двумя склонами гор залегает седловина - бывшее ложе исчезнувшего ледника и от нее спускается высокая древняя морена, на правом берегу в летнее время кочует киргизский аул из нескольких юрт.
Разбив свой лагерь возле этого аула, мы дальше к верховьям направились налегке. Тропа удовлетворительная до самого ледника Коянды. Приблизительно на середине расстояния она с правого берега переходит на левый по вполне доступному броду.
Приближаясь к ледникам, мы встретили огромное стадо горных козлов, в котором было более сотни голов; затем несколько крупных угрюмых птиц, похожих на грифов. Главный ледник р. Коянды помешается в широком просторном ущелье, ориентирующемся с юго-запада на северо-восток.
Седловина этого ущелья, там, где накопляется фирновый снег и падает на обе противоположные стороны, имеет форму типичного трога. Мягкая округлость склонов плавно переходит к поверхности ледника. Такую же форму сохраняет ущелье и ниже седловины.
При этом левый склон - более отлогий, чем правый. По степени вогнутости склонов видно, что в период древнего оледенения поверхность ледника поднималась до половины вертикального расстояния между теперешним уровнем и вершинами, опирающимися на прилегающие склоны.
На картах через означенную седловину ледника указан перевал Коянды высотой в 4 276 метров. Перевал соединяет верховья Коянды с верховьями Кара-Сая. Но местное население очень редко пользуется им. Путь к нему тяжел и сравнительно на немного сокращает обходные дороги.
Главное питание леднику дает правый склон (обращенный к северо-западу) где снег лежит толстыми пластами. Левый склон, обращенный к юго-востоку, имеет снега значительно меньше. Фирновое поле чистое и отлогое. С таким же уклоном оно переходит и в цунг.
Угол падения последнего в наиболее типичных местах, измеренный эклиметром Брандиса, составляет 3 - 4°. С левой стороны ледник имеет три ветви, которые тесно соединяются с ним. Самая верхняя примыкает к главному леднику вблизи седловины.
Наблюдать эту ветвь подробнее не удалось, так как шла мелкая снежная крупа, которую крутил ветер, дувший с перевала. Вторая ветвь, длиною приблизительно 5 - б км, берет начало между крутыми склонами гор, местами переходящими в утесы.
Поле цунга довольно ровное, но на оконечности бугристое, и здесь образуется ряд трещин и сераков. Третья ветвь в своих верховьях раздробляется на несколько ветвей. Последние извиваются в узких ущельях, из которых одно, довольно отлогое, начинается от седловины.
Здесь очевидно находится самая отдаленная часть ветви, и, надо полагать, с противоположной стороны седловины спускается переметный ледник. Поверхность ветви бугристая, особенно на левой половине; крутизна падения к главному леднику не выходит за пределы средней.
Оконечность изрезана сераками. Боковые морены выступают рельефно. Правая сливается с левой боковой мореной предыдущей (второй) ветви и дает узкую невысокую срединную морену, выдвигающуюся на конце продолговатой гривой.
Левая боковая морена резко выделяется высотой, особенно в месте огибания ледником побережной горы. Ширина 2-й и 3-й ветвей в районе их слияния не менее 1,5 км. Главный ледник, приняв в себя последнюю ветвь, переходит из спокойного рельефа в волнообразный.
Здесь, ближе к левой стороне, он падает в котловину, заполненную хребтами и гривами с густо отложенным на них моренным материалом. Ниже по течению котловина суживается и принимает форму лога, по дну которого течет ручей.
Этим логом ледник разделяется на две половины: правую наибольшую и левую наименьшую по ширине. Моренный материал обеих половин резко разнится: на правой он состоит из весьма разнообразных пород, и общий фон ее темновато-сероватый; среди обломков часто встречаются рассланцованный (метаморфизованный) гранит с выделениями пирита и молочный кварц с такими же выделениями пирита в виде кубиков; левая половина загружена почти исключительно одной породой обломками мелкозернистого роговообманкового гранита, близкого к аплиту, и фон ее светло-серый.
Далее другая разница: на правой половине моренный материал более разрушенный и обломки его мельче, а на левой крупнее. Чем ближе к оконечности, тем гуще главный ледник покрыт моренными отложениями. Падение его здесь становится круче. около 1 км.
Фронтальная морена оканчивается стеною в 70 - 90 м высоты. Угол падения стены - от 31 до 33°. Подножие стены находится на высоте 3 600 м. Перед фронтальной мореной тянутся флювиально-гляциальные отложения. При длине ледника, равной приблизительно 8 км, общий угол его падения от перевала до подножия составляет около 5°.
Речка Коянды вытекает из ледника тремя крупными потоками и несколькими мелкими ручейками. Русло, по которому разливаются их воды, имеет в ширину приблизительно 0,5 км и уклон 1,5 - 1,75°. С правой стороны ледника Коянды в тесных каровых ущельях залегают небольшие ледники.
Их насчитывается пять до линии, касательной к оконечности фронтальной морены главного ледника. Далее ниже по долине находятся еще два и один маленький снежник, прилепившийся между склонами короткого отщелка (ущелья – А.П.).
Самый верхний ледник, имеющий очень крутую стену цирка, сливается с главным, а все остальные принадлежат к типу висячих. Все они заканчиваются почти отвесными лбами, высотою около 10 м. Некоторые из них рассечены краевыми и поперечными трещинами.
Современное оледенение боковых частей верховий реки наблюдается и на левой стороне. Там оно более значительно, чем на правой, но сами ледники расположены высоко над уровнем долины и скрыты своими конечными моренами.
Несколько ниже главного ледника, высоко среди сходящихся в полукруг склонов, вытянулся огромный снежный горб, очевидно принадлежащий леднику. В 3 - 4 километрах ниже, из бокового ущелья падает в долину высокая свежая морена, ярко выделяющаяся светло-серым цветом материал
Последняя морена принадлежит леднику, показанному в соответствующем месте па двухверстной военно-топографической карте. Означенный ледник дает большое количество светлой чистой воды, которая течет многочисленными ручьями (сверху и из-под морены), разливающимися по зандру так, что редко где среди него остаются маленькие полоски суши.
К главному леднику реки Коянды мною сделан промер для наблюдений над его пространственным состоянием. Промер относится к подножию фронтальной морены и может вследствие этого характеризовать в будущем только положительные перемещения.
Инструментами служили буссоль, румбы по которой брались с руки, и двенадцатиметровая рулетка. Исходным пунктом взят большой серый валун, первый по величине на левой стороне среднего потока. Валун находится у подножия отлогой части морены, за которой последняя резко поднимается вверх.
Высота его свыше 2 м., форма угловатая, остроконечная. Выше, по направлению к уступу морены, в 3 - 4 м лежит еще другой валун несколько меньших размеров, с плоской вершиной. Началом измерения служит точка в кольце (все знаки и надписи сделаны желтой эмалевой краской), изображенная на боку валуна, обращенном к морене.
На северном боку того же валуну написано: 9 – VIII - 29 ЮЗ : 75 40. 9 Н. П. Конечным пунктом измерения взят серый валун, средней величины с плоской вершиной, лежащий у подножия морены на вышеупомянутом выступе, откуда крутизна морены повышается до 30".
Промер сделан до точки. Расстояние между указанными точками валунов составляет 40,9 м по линии, имеющей уклон 11°. В переводе на горизонтальное положение расстояние будет равно 40,2 м. Румб линии от первого валуна ко второму - ЮЗ : 75°.
Выше мною упоминалось о следах древнего оледенения на склонах гор. Такие же следы в виде продольных валов, остатков 'боковых морен главного ледника, имеются и в самой верхней части долины. Здесь в некоторых местах явственно выделяются один над другим три вала.
Это свидетельствует о том, что в данном районе было три стадии оледенения. Древние, заросшие травою, моренные отложения вообще довольно часто встречаются по долине. Особенно много их в, устьях боковых ущелий. Одна такая фронтальная морена, отличающаяся массивными размерами, находится на левой стороне реки вблизи аула.
В момент наблюдения мною в бинокль на гребне ее важно паслось несколько верблюдов, не смущавшихся довольно значительной крутизной. В день нашего пребывания на ледниках погода в долине Коянды была пасмурная. Вершины гор были окутаны облаками, которые низко неслись, гонимые легким восточным ветром. Т
емпература в течение дня не поднималась выше 7°„ а около оконечности ледника она спускалась до 4,5°, причем шел липкий, влажный снег большими хлопьями. Незначительная ширина долины, глубоко погруженной между высокими скатами гор, и экспозиция ее на северо-восток и на восток ставят ее в невполне благоприятные условия по части получения солнечного света и тепла.
Это обстоятельство делает климат долины более холодным, чем полагается для высоты в 3400 - 3600 м. Наивысшая температура, которую я здесь отметил в течение трех дней пребывания, составляла 14,6° в 14/г часов при почти ясном небе.
Такая температура наблюдалась 8 августа в 10 км ниже ледника на высоте примерно около 3200 м. В верховьях долины в летнее время кочует не более двух аулов. Население их в зимнее время живет на берегу Иссык-Куля, в районе селения Барскауна.
Приняв в последнее время земледельческие формы хозяйства, многие киргизы все же не расстаются и со скотоводством. Чтобы успевать и здесь и там, они разбивают свои семьи таким образом, что часть их в пастбищный сезон кочует со скотом, постепенно углубляясь в горы на „джайляу”, а часть остается на пашнях, выполняя все работы, связанные с земледелием.
Таким именно аулом был тот, около которого мы разбили свой лагерь. Наиболее крепкое мужское население его находилось на Иссык-Куле, в 120 - 140 км отсюда. Здесь же, на джайляу, были старики, женщины и дети. Помимо пастьбы скота, который, к слову сказать, пасется без всякого присмотра, где и как ему вздумается, - взрослое мужское население аула занимается охотой
Объектами добычи служат горные козлы, волки, сурки и проч. Охота производится с огромными шомпольными ружьями, еще сохранившимися от давнопрошедших времен. Киргизы предпочитают эти дедовские больше-калиберные ружья новым одноствольным централкам, которое по их отзывам бьют будто бы ближе и редко когда убивают на смерть крупную дичь.
Для охоты на мелких животных, кроме того, употребляются капканы и беркуты. Последний способ охоты доступен только состоятельным киргизам, так как- приученные для нее беркуты ценятся весьма дорого. Больше всего добывается сурков. Эти обитатели альпийских лугов играют здесь такую же роль, как и зайцы в степях.
Их уничтожают и люди, и медведи, и прочие хищники. Но, несмотря на это, сурки все еще встречаются в изобилии и почти повсюду. Киргизы в дополнение к обычным приемам истребления употребляют для сурков еще новый. Они делают небольшие каналы (по местному - арыки), в которые отводят воду из ближайшего источника и направляют ее в норы, выживая обитателей посредством затопления.
Такие каналы иногда достигают солидной длины и с боковыми бороздами представляют из себя довольно разветвленную сеть. Подобная охота требует большого терпения, так как процесс ее захватывает много времени. езобидные сурки иногда являются причиной эпидемических заболеваний.
Эти многосемейные животные часто болеют чумой, легко передавая ее друг другу. Вследствие этого некоторые районы Киргизии (долина Аксая за Атбашами и др.) находятся под постоянной угрозой вспышки чумы. Передатчиками последней от сурков к людям служат шкурки, которые являются здесь до некоторой степени предметом широкой торговли.
Их закупают специально приезжающие для того агенты государственных заготовительных организаций. Шкура сурка, умершего от чумы, попавшая в руки ничего не подозревающего киргиза, таким образом может служить причиной страшного бедствия, первой жертвой которого обычно падает невежественный охотник.
К вечеру вода в реке Коянды от дневного таяния ледников значительно поднялась. Мутные и грязные волны, грузно прыгая через камни, создавали дикий шум в узкой долине. С высоты белых граней, блестевших под последними заходящими лучами солнца, снисходительно смотрели вниз застывшие в покое горные вершины.
Старик-киргиз из аула выехал на быке к пасшимся на противоположном берегу коровам. С привычной неторопливостью он перебрался через бушующую речку, собрал в кучу все стадо и настойчиво погнал его через реку. Я с любопытством наблюдал за этой операцией.
Коровы боязливо столпились на берегу, но побуждаемые киргизом, ухнули в объятия потока, который сразу же закрыл их выше половины роста. Волны . . . камни . . . высоко поднятые головы . . . напряжение борьбы . . . Все это представляло захватывающую картину на фоне окружающего однообразия.
Мгновениями казалось, что поток окажется сильнее и собьет бедных животных. Но все стадо, сверх моих ожиданий, перебралось благополучно. В ауле мы запаслись мясом архара, которого незадолго до нас убили здешние охотники.
Обошлось оно нам по очень дешевой цене, примерно около 20 коп. за кило. Затем путем обмена на сахар мы получили серию молочных продуктов: сиирмай (коровье масло), сюзме (свежий и соленый творог), курт (выжатый и засушенный творог в виде шариков) и кумыс.
Этого нам было достаточно, чтобы тронуться в дальнейший путь к реке Иирташу (по Краснову - Иир-тас). От долины последней нас отделял отрог Ак-Шийряка, имеющий несколько вполне удовлетворительных перевалов. Мы направились через первый из них, считая сверху вниз: но течению.
Подъем на него начинается по той огромной морене, которая спускается с седловины между склонами гор, падая на левый берег Коянды, о которой уже упоминалось выше. Сама седловина представляет ложе исчезнувшего ледника; от которого сохранились типичная троговая форма ушелья и поддонная морена, почти сплошь заросшая травой.
Это древнее ледниковое ложе по своей форме очень схоже с современным ложем главного ледника Коянды. И как на последнем теперь, так и здесь раньше, ледник перебрасывался на другую сторону к р. Иирташ, являюсь переметным.
В день вашего переезда, 10 августа, дно ложа было покрыто слоем снега, достигавшим 8 см толщины. Но вероятно бывают дни, когда снежный покров на нем совершенно отсутствует. Вскоре мы минуем перевал Ишигарт, который выступает седловиной на боковой гряде хребта, сопровождающей с восточной стороны ущелье бывшего ледника.
Седловина Ишигарта выглядит довольно узкой и имеет такую же троговую форму. Она несколько приподнята над дном главного ущелья. В тот же период оледенения с нее несомненно, спускался ледник, впадая в главный. Высота перевала Ишигарт равна 3988 м.
За районом Ишигарта нам встретились два киргиза-охотника с ружьями за плечами. У одного из них болтался на седле убитый сурок. Высшей точки ущелья мы достигли почти незаметно. Так же полого идет вначале спуск к долине р. Иирташа.
Но, чем ближе к последней, тем уклон ущелья становится круче. Начинают появляться глубокие размытые лога с торчащими на склонах валунами. Спуск к Иирташу (Сарчату) идет по фронтальной морене, где, прыгая по камням, извивается небольшая ледниковая речка.
Морена, изрытая буграми и котловинами, поражает почти полным отсутствием растительности. В дополнение к тому редкие кустарники и трава, встречающиеся кое-где, совсем непохожи на обычную горную флору. Этот диссонанс становится еще более разительным, когда мы вступаем в долину Иирташа.
Кажется, что будто степь и пустыня с высоты в 500 - 700 м перенеслись сюда, в эту долину, сделав вертикальный скачок на 2/г тысячи м. Их типичные представители- полынь и чий расположились здесь совсем как у себя н родной обстановке.
Впервые на наличность степной растительности в долине Иирташа, столь несвойственной высокогорным тянь-шаньским долинам, обратил внимание А. Н. Краснов.
Характеризуя ее скудость, он пишет:
„Беднейшие пустыни Арало-Каспийской низменности или Калмыцкой степи кажутся щедрее одетыми, чем это печальное царство смерти. Редко, где между камней можно встретить уродливые, едва выглядывающие из земли растеньица".
Кроме своеобразного характера растительности мы замечаем и довольно ощутительную климатическую разницу. В сравнении с долиной Коянды по ту сторону перевала здесь чувствуется заметное потепление.
Повышение температуры, выражающееся в 5 - 6°, было обязано не одному только понижению высоты долины (3080 м против 3200).
Очевидно, что долина Иирташа находится в более благоприятных условиях в отношении получения тепла. В той части, где мы спустились к ней, она обращена почти на юг, с небольшим отклонением к востоку. От холодных северных ветров она защищена самым высоким массивом хребта Терскей-тау (вершина 5250 м), а от западных, приносящих осадки, - почти столь же высоким хребтом Ак-Шийряк.
Осадки проникают в долину уже после того, как значительная часть их останется на гребнях и западных склонах Ак-Шийряка и до некоторой степени на восточных в наиболее верхних зонах. Сухость долины подчеркивается еще ландшафтом.
Скалистые утесистые горы с крутыми боками и плоскими вершинами одеты в мелкие щебневые россыпи. Голые камни и голые склоны подавляют обширностью своего распространения. Незаметно теряется в их пределах тощая скудная растительность.
Мрачный, несмотря на яркость солнца, колорит. Долина, имея ширину около 1 км, кажется узкой и тесной благодаря высоте береговых гор, поднимающихся над ней на 1000 и более м. Река течет в отлогом русле между обрывистыми (6 - 10 л/) глинистыми террасами.
В обрывах последних выступает множество крупных и мелких валунов угловатой формы. Несомненно, что река промыла себе путь в древнем подледниковом ложе (в донной морене). Следы прежнего оледенения сохранились помимо того на правых склонах прибрежных гор.
Здесь в некоторых местах выступают узкими терассовиднымн валами древние морены. Число этих валов проследить затруднительно. Углубляясь вверх по Иирташу, по тропе, идущей вдоль правого берега, мы все время видели вокруг себя тот же однообразный ландшафт серых тонов и пустынного характера.
Только на вершинах гор скучные монотонные краски увенчивались белыми цветами блестящих полос снега, вытянувших свою нижнюю границу по ровной, точно по линейке проведенной линии. Вскоре мы достигли одного из крупных притоков Иирташа речки Джаман-су.
Она берет начало из довольно значительных ледников северо-восточного склона Ак-Шийряка. С дороги видно узкое скалистое ущелье, в котором стоял густой туман, заполняя все пространство вплоть до устья. Ущелье кажется мрачным и неприветливым.
По склонам его тянутся валы древних боковых морен. Молочно-белые воды реки текут мощным стремительным потоком. Говорят, что в часы своего подъема они нередко сбивают с ног лошадей и делают переправу тяжелой. За это и прозвали речку „Дурная вода".
Вследствие того, что в день нашего переезда в верховьях Джаман-су стояла сырая холодная погода и ледники таяли слабо, мы перебрались благополучно, хотя лошадям все же было трудновато. Вскоре же за Джаман-су, в полукилометре или немного более, путь преграждает гряда древней морены в 15 - 20 м высотою.
Ее сильно смытая поверхность покрыта крупными валунами, оставшимися на месте вследствие своего огромного веса. Темный загар на боках валунов придает всей морене мрачный вид. Тропа, извиваясь переваливает через гребень.
Иирташ (Сарчат) в некоторых местах разливается мелководными рукавами В одном из таких рукавов мы заметили массу мелкой рыбы из рода османов. Остановив лошадей, мы организовали примитивную ловлю. Для этого поперек протока мы погрузили небольшой брезент, в направлении которого один из рабочих принялся гнать рыбу, бродя по воде.
Как только испуганная стая подплыла к вертикально стоящему полотнищу, двое других рабочих моментально подхватили ее брезентом и подняли последний кверху вместе с попавшейся рыбой. Таким образом в один прием, занявший всего 5 - 7 минут времени, было поймано более полведра мелкой блестящей рыбешки (длиною 13 - 20 см), оказавшейся очень вкусной.
Река Иирташ (Сарчат) в брод непроходима. В этом мы убедились непосредственно. Как-то мы увидели на противоположном берегу охапку дров, что представляло большую ценность в этом безлесном районе. Двое рабочих решили завладеть этим великолепным топливом.
Но, сколько они ми понукали своих лошадей, те, пройдя по реке несколько метров, поворачивали обратно. Однако в некоторых местах, где река особенно широко разливается, броды существуют. Есть например такой брод в районе притока Кюэлю, через верховья которого идет тропа на Сарыджасские сырты.
В этом же районе на первом берегу Иирташа сохранились небольшие, весьма каменистые бугры древней, очевидно, поперечной морены. Несколько далее, не доезжая притока Чомой, из узких ворот одного ущелья, сжатого скалистыми стенами гор, падает широкими валами еще одна высокая и крутая морена.
Из-под нее тянутся небольшие ручьи. Возможно, что глубоко под каменными нагромождениями сохранилось оледенение. Современные ледники верховий Иирташа далеко отступили от своего прежнего положения. Они втянулись выше в боковые ущелья, остановив свои нижние концы на уровне не менее 3300 - 3400 м.
Самые крупные из них находятся по левую сторону от долины и имеют, как это ни странно, экспозицию южных румбов. Сверху вниз по течению это будут: ледник Колпаковского, Бороко, Борду 1-й и Борду 2-й. На правой стороне с экспозицией восточных румбов из крупных ледников можно отметить только упоминавшийся выше Джаман-су.
Затем имеется ряд ледников средних размеров, близко расположенных друг к другу, в самых истоках Иирташа. Эта группа обладает экспозицией северо-западных румбов, а оконечности ее ледников приподняты над уровнем моря более значительно, чем предыдущие.
Но в своей совокупности они доставляют весьма заметный приток воды в общее русло Иирташа. Можно сказать, что главными поставщиками последней являются они и почти в равной доле с ними ледник Колпаковского. Чем выше по Иирташу, тем диче и глуше становится вокруг.
Долина все теснее и теснее обступается горами. Между реками Кюйлю и Борду эти горы, близко подходя к левому берегу, круто выпячиваются голыми обрывистыми стенами. Здесь обращает на себя внимание одна из плоскостей обрыва, срезанная фацетом.
На ней явственно выступает группа мелких складок, свидетельствующая о сильном смятии пластов. За рекой Борду на правом берегу Иирташа находится камень-валун, давший название реке. Камень обточен атмосферными агентами так, что верхняя часть образует выемку с приподнятым впереди узким гребнем.
Киргизы находят в нем сходство с седлом и, дав ему имя Иир-таш (каменное седло), перенесли последнее и на реку. За рекой Бороко на правом берегу, прямо над тропою, по которой мы едем, встречается интересная форма выветривания.
Она представляет конгломератовую скалу, похожую видом на сидящую исполинскую жабу. Это сходство особенно поразительно издали со стороны нижнего течения реки. Выше, за каменной „жабой долина Иирташа становится более бугристой.
Правобережные известняковые горы усеяны скалами. Ручьи, текущие из боковых ущелий, образуют узкие глубокие русла, похожие на каньоны. Так же резко изменяется и река Иирташ. Она уже течет в коренных породах и часто прорывается сквозь тесные каньоны.
Кое-где русло реки уменьшается в ширину до нескольких л. А в одном месте, против какого-то правобережного потока, внушительная дикая картина. Массивный гладкий камень разделяет реку так, что между ним и берегами пространство воды составляет всего полтора-два метра.
Здесь можно перепрыгнуть с одного берега на другой, но для этого требуются большая ловкость и присутствие духа: стремительные воды, обтекая камень, низвергаются в страшный, бешеный водоворот, от которого дрожат крепкие отполированные берега.
К вечеру 11 августа мы добрались до истока, вытекающего из ледника Колпаковского. Здесь по ущелью текут навстречу друг другу два мощных потока. Оба в глубоких каменистых руслах. Первый из них берет начало из группы ледников хребта Ак-Шийряк и частью из ледников южного склона Терскей Ала-Тау, а второй, не уступающий по величине первому, а возможно и превосходящий его, обязан своим питанием только одному леднику Колпаковского.
Переехав в брод через первый из этих потоков (левый, считая по течению), мы вступили в область древних моренных бугров, оставшихся от исчезнувшей части ледника Колпаковского. Среди бугров множество характерных бараньих лбов.
Котловины покрыты густым ковром травы, почти нетронутой стадами животных. Странным до некоторой степени было то обстоятельство, что здесь не встретились нам киргизкие аулы. Долина Иирташа настолько бедна пастбищами, что столь „сытный* уголок представляет здесь исключительное явление.
Возможно, что причиной неиспользования этой растительности служит редкость населения. На том 40-километровом пути, который мы проделали от устья Курга-Тепчи до ледника Колпаковского, мы видели только один небольшой аул, расположившийся в стороне от тропы.
Поднявшись до высоты более 3300 м, мы вступили в совершенно другую зону. Здесь уже нет ничего, что напоминало бы степную флору, оставленную нами на 200 - 300 м ниже по вертикали. Воздух влажнее и холоднее. Близость главного гребня Терскей Ала-Тау с его вечными снегами резко отражается на характере климата.
Чувствуется та же типичная обстановка ледникового ландшафта, что и в долине Коянды. В подтверждение всему этому изменилась и погода. При сплошной облачности и западном ветре начал накрапывать дождь. Ночью его сменил густой липкий снег, который с небольшими перерывами продолжался весь следующий день.
Ветер сделался переменным. Он перешел в кольцевое движение, дуя поочередно в различных направлениях. Ледник Колпаковского впервые описан в 1869 г. под именем Иирташского путешественником Каульбарсом и в 1886 г. путешественником А. Н. Красновым, который и дал ему новое имя.
Этот ледник является самым крупным в бассейне Иирташа. На значительное пространство от него не встречается других ледников, которые могли бы соперничать с ним подлине и площади. Только ледник Петрова, расположенный на северо-западной стороне хребта Ак-Шийряк, несколько превышает его по размерам.
Оконечность ледника Колпаковского находится на высоте 3370 м. Она спускается вниз не особенно круто, вытягиваясь сплошной мелкой бугристой массой, покрытой моренными отложениями. Тут же из низкого, но широкого грота (высота 1,5 м, широта у входа 10 - 12 м) спокойно вытекает мощный поток.
Обойдя сбоку невысокие конечные морены, он упирается в каменный барьер, которым замыкается ледниковое ущелье. Здесь поток промыл себе узкий каньон в метаморфизованном темно-сером, плотном известняке. Длина каньона не превышает 1 км, глубина доходит до 30 м и более, а ширина от 3 до 10 - 12 лс.
Поток течет в нем бурно и стремительно, а в одном месте падает шумным водопадом. Каньон, очевидно был разработан ледниковыми водами еще тогда, когда над ним лежали толстые пласты ледника. Он очень похож на такой же каньон р. Атбаш в районе Чортова моста (Шайтан-купре).
Только в Атбаше больше воды и менее извилистое течение. Если смотреть со стороны фронтальной морены на суженное над каменным барьером ущелье, представляющее как бы ворота, то явственно можно различить следы древнего оледенения.
Прежде всего стены ворот поражают гладкой полировкой, обязанной действию льда. Затем отчетливо выделяются, особенно на правой стороне, две пологих террасы, не считая третьей, непосредственно возвышающейся над каньоном.
Эти террасы и троговая форма их склонов свидетельствуют о трех стадиях бывшего здесь оледенения. Три раза ледяные массы заполняли ложе ворот, и каждый раз их поверхность находилась на все более низком уровне. В современном положении поверхность ледника Колпаковского (на оконечности) метров на 60 - 80 ниже самого высокого стояния в древности.
Есть основание полагать, что за последние десятилетия ледник также сильно сократился. По наблюдениям Каульбарса ледник в 1869 г. отстоял от барьера ворот не более 21 м, тогда как в настоящее время это расстояние на много значительнее, что видно непосредственно на-глаз.
Для суждения в будущем о пространственном состоянии ледника мною сделан промер к его оконечности в районе грота. Инструментами служили буссоль и рулетка. Исходный пункт – темно-серый валун среднего размера (высота в рост человека) с плоским ребром вершиной.
По величине резко выделяется, так как других подобных валунов поблизости нет. Находится на правом берегу главного потока, там, где последний дает от себя вправо небольшую ветвь; в 1,5 м от правого берега этой ветви. В одном шаге oт валуна, по направлению к конечности ледника сооружена небольшая тумба из камней, в середине которой вставлена палка.
Начало измерения - точка в кольце, изображенная желтой эмалевой краской на ребре валуна, обращенном к оконечности ледника. На западной боковой плоскости ребра написано (надписи размазаны, так как шел густой липкий снег, ложившийся на них): С 3:80° 19,2 Н. П. К
онечный пункт - закраина (тонкая ледяная корка) оконечности цунга возле правой стороны грота и вытекающего из него потока. Угол падения языка к точке конечного пункта составляет 27°; на остальных частях вправо от него падение языка значительно отложе.
Ледник Колпаковского мы покинули в один из коротких перерывов сыпавшегося с утра снегопада. Мы рассчитывали, что за этим перерывом последует улучшение погоды, но вскоре же убедились в ошибочности своих предположений.
Снег повалил гуще прежнего. Вершины гор потонули в его крутящихся вихрях. С трудом мы ориентировались в том узком сером пространстве, которое оставалось незакрытым завесою падающих хлопьев. Теперь наш путь лежал к озеру Иссык-Кулю, куда мы решили проникнуть через перевал Джуукучак.
Это был самый ближайший от нас перевал, но в то же время самый высокий и тяжелый. Когда мы повернули в его ущелье, то оказались едущими против ветра. Сильные яростные порывы, сопровождаемые тучей ослабляющих глаза снежинок, причиняли нам неприятные ощущения.
Трудно было смотреть по сторонам н следить за постоянно исчезающей незаметной тропинкой. Где-то на утесе, мелькнула белая колонна дождемера и тотчас же скрылась, окутанная ринувшейся на нее с вершины снежной пылью.
Через некоторое время мы уперлись в ледяную стену небольшого ледника, заполнившего вершину ущелья. Разбушевавшийся ветер с диким воем рвал на леднике снег и бросал его вниз? обдавая наши лица жесткими холодными уколами.
Ни впереди ни по бокам тропы не было видно. Нам пришлось повернуть обратно и в ожидании более хорошей погоды разбить лагерь в 4 - 5 км ниже по ущелью. К вечеру мятель прекратилась, и облака освободили атмосферу. Термометр показывал - 0,9° С.
На другой день, 13 августа, после восхода солнца в 7 час. утра температура воздуха была еще холоднее: - 4,5° С. Кругом сиял ослепительный и яркий от солнечного блеска сплошной зимний пейзаж. Наша вторичная попытка перевалить через Джуукучак снова потерпела неудачу.
Тропу, глубоко заваленную под снегом, нащупать не удалось. Многочисленные камни и валуны, разбросанные в единственном удобном месте для подъема, не давали возможности итти прямо. Ноги лошадей постоянно застревали между ними, а у одной из вьючных завязли настолько, что мы провозились около получаса, пока освободили ее из опасных каменных тисков.
Случаи полной гибели скота вследствие таких происшествий здесь очевидно, бывают нередки. На это указывали довольно многочисленные костяки животных, усеивающие этот район пути к Джуукучаку. Пешая рекогносцировка вперед также не привела ни к чему.
Чувствовалось, что тропа где-то близко, но глубокий снег скрывал ее от взора. Позже хорошо осведомленные киргизы говорили мне, что перевал после обильного снегопада делается недоступным, а в другое, время путь через него сможет найти только тот, кто хоть однажды проезжал по нему.
Так это или нет не берусь судить, но мой лично опыт убедил меня, что без знающего проводника пытаться проехать перевал, когда он весь под снегом, рискованно для лошади. Еще в предыдущий день мы миновали узкую водораздельную седловину, за которой скрылись все ручьи и речки, текущие в Иирташ.
Эта седловина, бывшая затянутой от наших взоров пеленой мятели, является, подобно плато в верховьях Кара-Сая и Теза, еще одним из многочисленных рубежей между бассейнами Сыр- Дарьи и Тарима. С юго-западной стороны от нее начинается широкая и разветвляющаяся котловина, носящая название Ак-Шийрякского сырта.
Путешественник Каульбарс считает ее главным поднятием горной системы Тянь-Шань. Эта котловина представляет собой безусловный цирк древнего огромного ледника, захватывавшего на далеком протяжении долину Нарына и, очевидно, также далеко перебрасывавшегося и в долину Иирташа.
По замеченным мною следам оледенения в нескольких километрах ниже реки Улан этот исчезнувший гигантский ледник простирался по Нарыну не менее как на 120 км, а возможно, что спускался и ниже тех явственных следов, которые он оставил в виде боковых морен.
Теперь котловина Ак-Шийрякского сырта имеет вид высокогорного моренно- озерного ландшафта. Ее ровное с очень слабым уклоном ложе в изобилии насыщено влагой. Многочисленные ручьи с тихим и слабым течением разливаются во всех направлениях.
Особенно низкие места покрыты озерами и сазами. Самое крупное из озер расположено у устья Джуукучакского ущелья. Его извилистые топкие берега незаметно сливаются с общей поверхностью котловины. Окраины сырта замыкаются бугристыми грядами морен, оставленных отступившими в ущелья ледниками.
Мягкие отлогие склоны покрыты редкой, пожелтевшей от холода травою. Выше моренных увалов резко начинают подниматься скалистые аванпосты горных кряжей. Здесь область каменных россыпей, мрачных расщелин и вечных снегов.
Высшие вершины гор стоят от уровня котловины на 800 - 1000 м, а средняя высота их гребня - на 500 - 700 м. С хребта Ак-Шийряка к долине сырта близко подходят ледники. Среди них по мощности и длине выделяется ледник Петрова.
Его фирновые поля далеко внедряются вглубь ущелий, сливаясь с такими же белыми, сверкающими под солнцем снегами питающих склонов. Ледник Петрова включен в круг систематических наблюдений, инициатором которых является научный деятель Средазмета Л. К. Давыдов.
Во время нашего переезда через сырт вблизи означенного ледника заканчивалась постройка метеорологической станции того же Средазмета. Однако со стороны нашего пути (мы находились в 10 - 15 км) постройки видно не было. Станция обеспечена жилыми помещениями и радио.
Теперь она функционирует уже второй год, причем наблюдатели круглый год проводят без смены. Окруженный со всех сторон близко лежащим поясом вечных снегов, Ак- Шийрякский сырт обладает суровым климатом. Это обстоятельство, вместе с отсутствием больших и сухих пастбищных пространств, делает его почти необитаемым.
Редко, когда на окраинах его в середине лета появляются аулы кочевников, да и те располагаются только на короткое время, как на одном из этапов своего передвижения к более обильным „джайляу“. Пустынный, безжизненный вид сырта производит гнетущее впечатление.
Красота гор, покрытых снегом и перерезанных ледниками, кажется чересчур чуждой и холодной. Отказавшись от пути через перевал Джуукучак, мы остановили свой выбор на соседнем с запада перевале Кашка-су. Лавируя между увалами и объезжая сазные топкие места, мы достигли долины речки Кашка-су, где вдоль берега тянулись слабо заметные следы тропинок.
Кашка-су (по-русски - „лысая река") своим названием характеризует наличность в принадлежащих ей верховьях голых без травных пространств, которые выглядят похожими на плешины. Зимний ландшафт сыртов, вызванный метелью, не прошел бесследно для моих спутников.
У двух из них слезились от воспаления глаза, а у одного заболели настолько, что пришлось прибегнуть к повязке. Перевал Кашка - су, к которому выехали мы 14 августа рано утром, заслуживает описания. Ущелье, где оно находится, и путь к нему чрезвычайно оригинальны и живописны.
Вначале со стороны Ак - Шийрякского сырта идет постепенно суживающаяся долина с отлого спадающими к ней склонами гор. С этих склонов там и здесь текут ручьи, впадая в р. Кашка - су. Почва долины насыщена влагой, и в ней вязнут ноги.
Часто топкая почва переходит в настоящие сазы. Но вследствие того, что она в последние дни промерзла, а солнце еще не успело растопить ледяные корки, покрывшие скопления воды, езда не доставляет затруднений. Равномерно и ритмично цокают подковы лошадей о ломающийся под ними тонкий лед.
Вот озеро. За ним другое, третье. Кое-где валяются кости погибших животных. Берега долины из отлогих и округлых переходят в утесистые. Круто, почти отвесно вздымаются горы. Слева показывается ледник длиною около 3 км, с экспозицией на восток.
Его цунг спускается в долину шатровым горбом. Несколько дальше с правой стороны - второй ледник, приблизительно таких же размеров, с экспозицией на запад. Перед ним небольшое озеро, в воды которого он погружает свою оконечность.
Тропа, тянувшаяся до того по левому берегу Кашка-су, переходит в обход этого озера на другую сторону. Здесь она влезает на моренные отложения, которых, по мере углубления в ущелье, становится все больше и больше. Там, где остались свободные от морен места, уютно пристроились озера.
Их много, и почти беспрерывной цепью они следуют одно за другим. Тропа, часто расплываясь в неясные очертания, осторожно вьется мимо озер. Иногда, спугнутая вниз чересчур крутыми обрывами морен, она прижимается к каменным берегам, и на зеленой поверхности пенной воды отражаются едущие всадники.
А в одном случае приходится перебираться вброд по мелкому протоку между двумя озерами. Остроугольные камни завалили здесь дно настолько, что переправа, кроме своей необычности, ничего особенного не представляет...
Ущелье тянется без крутых подъемов. Если не ориентироваться по направлению течения ручьев, то не сообразишь - достигнута высшая точка перевала или нет. Наконец, после нескольких часов езды, встречается озеро, из которого медленно струится ручей по противоположному скату.
Еще немного - другой поток с течением в ту же сторону. Этот - более оживленный, бежит с рокотом. Но вскоре камни морен поглощают его, и он теряется под ними. Итак, высшая точка перевала пройдена. Однако ничто в рельефе пути не говорит об этом.
Только инструментальная нивелировка могла бы определить наивысший пункт перевала. А на глаз - не разберешь и не поймешь: ущелье, заваленное моренами, все время кажется на одном уровне. Но вот сквозь узкий просвет, в рамке ограниченного угла зрения, показывается вдали белый волнистый гребень хребта Кунгей Ала-Тау.
Синее небо над головами, да этот кусочек гор, отдаленных от перевала на сотню километров. Однако он скоро закрывается боковыми стенами ущелья, которые отсюда, по мере спуска вниз, становятся все выше и выше. И теперь на них уже не снега, а короткие висячие ледники с крутыми, точно отрубленными лбами.
Морены также увеличиваются в размерах. Что-то невиданное и грандиозное! Хаос камней... исполинские валуны... Головокружительные высоты от дна ущелья до стрельчатых вершин, сторожащих тесный проход. В конце перевала, там, где морены начинают покрываться зеленью, эффектно падает по скалам тонкий искрящийся водопад, образуя живую, колыхающуюся от ветра ленту в несколько десятков метров длины.
На северной половине перевала мы сбились с тропы. Попали на одну из морен, откуда пришлось с чрезвычайной осторожностью спускаться по склону около 40°. В этом районе тропа проходит под оконечностью ледника, врезавшего свое туловище ниже всех к ложу ущелья.
Она была закрыта снегом, и это послужило причиной того, что мы сбились. Как мне кажется, в этом районе дорога по перевалу наиболее трудная. Здесь уже имеются крутые подъемы и спуски, тропа изобилует угловатыми обломками камней и часто идет по россыпям.
Последние состоят преимущественно из слюдистых сланцев, красиво блистающих иод солнечными лучами. Среди них встречаются обломки молочного кварца, с обильными выделениями мелкокристаллического пирита. Северная половина перевала не имеет озер; уклон ее значительно круче, и путь по ней гораздо тяжелее, чем по южной.
На весь перевал Кашка-су, считая от выхода р. Кашка-су из ущелья (на южной стороне) и до подножия последней зеленой морены в альпийской зоне (на северной стороне) мы потратили семь часов. Это период времени не малый.
Какое огромное удовольствие почувствовали мы, когда достигли давно невиданного разнообразия растительности и на нас пахнуло приятным теплом более низких высот, чем те, с которыми мы расстались! Внизу, по долине северного Кашка-су, расстилались куртины еловых лесов.
Маячили серые юрты аула. Насыщаясь травою, блаженствовал скот. А выше, позади нас, над унылым Ак-Шийрякским сыртом сгущались облака, переходя от светлых к мрачным оттенкам.
Что такое слово «цунг» в работах Н.Н. Пальгова.
В трудах Николая Николаевича Пальгова, посвящённых исследованиям Тянь-Шаня, часто встречается термин «цунг» - заимствованный из немецкого слова Zunge, что означает язык. Так Пальгов называл нижнюю долинную часть ледника, которая спускается от его фирнового бассейна, продвигается по ущелью и заканчивается ледниковым фронтом.
В его описании 1929 года ледника Мушкетова читаем:
- «Главный цунг ледника Мушкетова вытянут в западном направлении и разделяется у своего фронта на два рукава. Между ними залегает моренный вал, сложенный из глыб и обломков известняков и сланцев».
(Н.Н. Пальгов. “По Центральному Тянь-Шаню”. 1929 год.)
Таким образом, цунг ледника, это по сути его “язык”, долинная часть, несущая основной поток льда и моренного материала. Термин использовался российскими географами начала XX века под влиянием немецкой гляциологической школы, где аналогичные формы называли Gletscherzunge.
Сегодня в современной научной литературе вместо «цунг» употребляют более точные термины:
- язык ледника,
- абляционная зона ледника,
- нижняя долинная часть ледника.
Интересная деталь:
Пальгов не только описывал “цунги” ледников, но и отмечал различие их формы и движения. Он считал, что форма “цунга” отражает «темперамент» ледника - насколько активно он движется, подтаивает, реагирует на климат. В этом виден его редкий талант наблюдателя: он умел оживить ледник, представив его как живое существо.
Источник:
Н. Н. Пальгов. «По Тянь-Шаньским сыртам». (Верховья Нарына, Ак-Шийряка, Иирташа)». 1929 год.







