Вы здесь
Верхненарынский сырт. Долина рек Атбаши и Аксай.
«занимался другой работой, зоологической, именно о тех позвоночных (птицах и змеях) Туркестанского края, которые не обработаны в путешествиях Федченко. Эти зоологические работы меня уже давно занимают, и меня к ним так и тянет, потому что таким образом составляю научный труд, который, надеюсь, будет и обширным и капитальным. Я в нем представляю свод положительных фактических данных для решения самых важных, животрепещущих и спорных вопросов зоологической географии и систематики и насчет его обработки советовался в прошлом году с самим Дарвином, который мой план одобрил. Тем не менее, я должен признаться, что эти зоологические занятия весьма чувствительно замедляют мои обязательные работы по физической географии Туркестанского края».
Н.А. Северцов. Письмо к К.П. фон Кауфману. 10 ноября 1876 года.
Топография вершин Нарына. Малоснежность сырта, высота вечных снегов. Вид сырта. Тяньшанский медведь. Сыртовые птицы. Долина Нарына и прибрежные хребты. Кабаны. Верхняя граница ели и можжевельник у Нарына. Значение сырта для каракиргизов, зависимость их междоусобий от постоянных топографических условий. Подъём на перевал к Атбаши. Первые следы качкара.
Поднимаясь на Барскаунский перевал, я понадеялся на тёплую погоду и оделся легко, но скоро снеговые вершины, открывшиеся при нашем выступлении, опять закрылись, и, поднявшись немного выше крупного взлобка у Керегетаса, мы попали уже в облака, т. е. в туман, с мелкой снежной изморозью; по временам облака поднимались, шёл снег, были легкие порывы ветра, но всё ещё было тепло; не холодно и на замёрзшем уже сазе, образующем вершину перевала.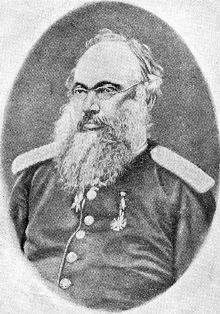
Наконец, мы вышли из долины сазов; снеговые вершины сзади нас немедленно скрылись в снежном вихре; задула метель, к счастью, не густая; мы вышли на сырт - открытую степь слишком в 12 000 фут. над уровнем моря. Наша тропинка шла вдоль ручья, круто замёрзшего и большей частью сухого, так как замёрзли и питающие его сазы, которые продолжались по степи.
Ветер был пронзителен, снег так и крутился, но падало его немного, и я замечал на степи, несмотря на её высоту, только слабые следы выпавшего в конце сентября снега; он и тут успел растаять. Минут на двадцать при повороте ветра с запада к северо-западу перестал итти снег; мы увидали впереди ряд скалистых холмов, сверху донизу покрытых снегом, на которых, впрочем, чернели частые полосы голого камня; вправо были такие же холмы; сзади нас поднимались много выше снеговые пики Терскей-Ала-тау, скрывая свои вершины в облаках.
Этот перерыв метели был весьма кстати; мы только что подошли к месту, где наша тропинка расходилась надвое, на юго-восток и юго-запад; мы пошли по первой, к открывавшемуся в переднем хребте ущелью; я беспрестанно слезал с лошади и шёл пешком, чтобы обогреться.
Скоро опять закрутился снег; его падающие хлопья, мелкие, сухие и промёрзлые, не держались на степи и вновь поднимались ветром; мы шли, видя только тропинку, и вошли в ущелье; вершины скал по бокам его были не видны; дорога в нём ровная, шириной сажен в пять, с водомоиной.
Пройдя вёрст пять, мы встретили преграждавший ущелье пологий увал не выше 2 саж.; за ним опять водомоина, но спускавшаяся уже к югу; склоны по бокам ущелья становились выше; наконец, в сумерки, мы вышли на травянистую котловину, окружённую высокими отвесными скалами; тут была и вода, хотя и замерзлая, всё в той же водомоине, и небольшое, еще не замёрзшее озеро; тут мы и остановились.
У сопровождавших нас киргизов, которые нас тут уже поджидали, весело горел огонёк из дров, подвезённых на заводной лошади в котловине, закрытой от всех ветров, было тихо; мы заварили чай и скорее обогрелись, а тут, тотчас следом за нами, подошли и верблюды с дровами и кошами, нашлось и тёплое платье, и метель была забыта на радостях, что, наконец-то, ночую за тем самым хр. Болгар, или Суёк, на который с Зауки и Барскауна только смотрели Семёнов и Проценко и где не было европейской ноги.
Впрочем, сопровождавшие меня киргизы назвали горы, где мы были, не Суёком и не Болгаром, а иначе: восточнее пройденного нами ущелья Уртасы {Это название кажется подозрительным и похожим на киргизское наречие, но но незнанию киргизского языка не берусь решить.
Сары-тур имеет характер настоящего имени. Сары-тур-тау значит жёлто-гнедые горы; их сланец, выветриваясь, отчасти принимает этот цвет. Впрочем, киргиз если не знает имени урочища, то редко скажет бельме (не знаю), а придумает для него прилагательное.}, а западнее - Сары-тур.
5-го с утра было облачно; прямо против лагеря, почти в версте, мы на скалистой стене увидали большое стадо архаров; Катанаев, Гутов и Чадов пошли к ним подкрадываться, но безуспешно; архары почуяли и скрылись. Часу в девятом прояснилось; стало морозно при безоблачном небе и едва чувствительном северном ветре.
Вязовский уже с раннего утра, до света, отправился назад к Барскаунскому перевалу, чтобы продолжать с восходом солнца прерванную вьюгой вчерашнюю съёмку, причём нужно было измерить на высокой равнине к югу от перевала поверочный базис и взять от него обратные засечки на нанесённые уже вершины по бокам ущелья; мне же нужно было проследить, также назад к перевалу, геологический разрез по пройденному вчера ущелью, так как в метель было не до наблюдений, только бы доехать до укрытого от ветра местечка в горах.
Потому я велел отряду выступить часов в десять, чтобы можно было довести съёмку до нового ночлега, а сам, как только начали вьючить, поехал назад, осмотрел формации ущелья, выехал на ровную степь за хр. Суёк, доехал и до сазов, и до начала спуска в Барскаунское ущелье - и не видал Иссык-куля, который хотел посмотреть сверху; он был заслонён отрогами ближайших снеговых пиков, между которыми вьётся верхняя часть ущелья.
Вернулся я на высокую степь, поднялся на увал, на правом берегу вымерзшего ручья, текущего к югу из Верхнебарскаунского саза с озером, и посмотрел на степь: она представилась широкой и ровной продольной долиной, между хр. Терскей-Ала-тау к северу и Сары-тур (или Болгар) к югу; к западу она замыкалась близкой грядой холмов, за которыми находятся вершины Малого Нарына, к востоку тянулась до горизонта.
Видел я выступавшие мысом пики у Заукинского перевала, которые мне показал сопровождавший меня киргиз; видел, что против них из-за мыса холмистого Сары-тур (тут уже Уртасы) выступали еще далекие снеговые вершины, повидимому, более высокие; это был большой снеговой хребет, виденный Семёновым с вершины Зауки, который и мне, как и Проценко, казался более высоким продолжением Болгара (тож Сары-тур и Уртасы), но в действительности выступает из-за него.
К востоку продольная долина была замкнута ещё высоким снеговым хребтом, которого гребень уже не был виден; только пики поднимались на горизонте. Под ногами у меня соединялось несколько неглубоких рытвин - ложа ручьёв, сбежавших от замерзания высоких сазов, и образующееся соединением их русло; в нём кое-где уже блестел на солнце лёд; оно направляется прямо к востоку немного наискось продольной долины, к выступающему мысу хр. Уртасы.
Эта вершина Нарына огибает хр. Уртасы и между ним и более высоким против Зауки (Джеташ у Проценко) поворачивает на юг и соединяется с восточной вершиной, вытекающей из Терскей-Ала-тау против промежутка между вершинами Джиты-угуза и Кызыл-су, текущих в Иссык-куль.
Обе соединённые вершины образуют р. Джа-ак-таш, текущую к юго-западу между хр. Джеташ {Который, вероятно, зовется не так, а Джаакташ, а р. Джа-ак-таш-су; таш по-киргивски камень, следовательно, Джаакташ скорее имя хребта, которое обращается в имя реки через прибавку слова су -- вода. На съёмке Каульбарса горная масса Акший-ряк есть именно упоминаемый здесь Джеташ, или Джа-ак-таш.} и Уртасы, вдоль северо-западной подошвы первого и юго-западной--последнего.
Встречаясь далее с Тарагаем, стоком огромного ледника Петрова в нагорье Джа-ак-таш, Джа-ак-таш-су принимает имя Тарагая и загибает к юго-западу, а по слиянии с Карасаем, текущим из юго-западной части той же горной массы, Тарагай поворачивает прямо к западу и у своего стока с сырта в первое тесное ущелье называется Большим Нарыном, в который еще далее, у нижнего конца ущелья, вливается Малый Нарын.
Самая восточная вершина последнего тоже всего верстах в десяти к юго-западу от Барскаунского перевала, следовательно, недалека и от западной вершины Большого Нарына. Но во время своей поездки и даже из устного о ней отчёта в Географическом обществе я знал только, что у Барскауна истоки самой западной вершины Большого Нарына, на которых я был; видел течение этой вершины к востоку; знал, что она заворачивает вокруг хр. Уртасы, вливается в Тарагай; знал ещё, что и от Заукинского перевала течёт речка к Нарыну - и только; все вершины Большого Нарына были осмотрены и нанесены на карту уже в 1869 г. Каульбарсом, который определил и истинное положение хребтов у истоков Нарына
В ущелье же Суёк {Суёк по наречию каракиргизов, суок по киргиз-казачьему значит холодный.}, пересекающем хр. Болгар и разделяющем его на две части: восточную - Уртасы и западную - Сары-тур, текут два ручья, оба Суёк-су, один на север, другой на юг, но оба впадают в одну и ту же реку {Южный Суёк не непосредственно: он течёт в Ак-курган-су, а та - в Тарагай.} под разными именами, только что указанными, огибающую хр. Уртасы.
Водораздел этих противоположно текущих ручьёв в одном непрерывном ущелье есть уже упомянутый небольшой увал. Пока я с двумя казаками и киргизом возвращался по этому ущелью к нашему ночлегу, над нами постоянно вились крупные вороны (Corvus corax), вообще редкие на Тянь-шане и все только немного вне выстрела. Со съёмочной партией я так и не встретился, хотя издали видел её на холме влево, при выезде из ущелья Суёк, но тут я сам занялся геологическим обнажением, а она скрылась.
Было далеко за полдень, когда я опять приехал к озерку, у которого мы ночевали; я ускорил шаг, чтобы догнать отряд; мы переехали вдоль реч. Ак-курган-су несколько увалов между двумя хребтами Сары-тур {Номенклатуру этой местности можно принять следующую: для всего холмистого хребта, первого к югу от перевала Барскаун,-- имя Болгар, по Проценко; западная его часть -- Сары-тур;восточная -- Уртасы; разделяющее их сквозное ущелье - Суёк.} и параллельным ему южнее; продольная долина между ними, пересекаемая этими увалами, не шире версты.
Мы проехали ещё мимо двух небольших озёр; последнее, выходя из лощины Сары-тура, запирает продольную долину; берега его, кроме южного конца, состоят из отвесных, совершенно голых утёсов чёрного сланца, живописно отражающихся в неподвижной воде, которая, кроме береговых закраин, еще не успела замерзнуть.
У южного конца озера параллельный Сары-туру хребет, шедший ровным отвесным обрывом, переходит в довольно пологий увал, огибаемый реч. Ак-курган-су, которая тут поворачивает к югу; она у поворота вливается в западный берег озера, а выходит из его южного конца.
В то же озеро с северо-запада вливается приток из одного из многочисленных ущелий Сары-тура, который тут уже значительно выше, чем по бокам Суёка. На заднем плане ущелий виден высокий снеговой гребень, но дорога была бесснежна, бесснежны и бока ущелий, до высоты (глазомерно) не менее 13 000 фут., т. е. около 1 500 фут. над дорогой, следовательно, на южном склоне Сары-тура, несмотря на октябрь и вчерашнюю метель, лежали еще только вечные снега, едва присыпанные свежим: и тут уже, прямолинейно всего в 20 верстах от Терскей-Ала-тау, влияние плоскогорья выказывается возвышением снежной линии футов на 1 000.
Впрочем, это влияние ясно уже на самом Барскауне, где бесснежный перевал на 500 - 700 фут. выше вечных снегов северного склона. Объясняю я это не одним солнечным нагреванием плоскогорья, способствующим быстрому таянию снега: самого снега выпадает меньше, как я заметил в метель 4-го.
Снежная туча, поднявшись на плоскогорье, скользит по нём, уносимая ветром; снежинки, весьма мелкие на этой высоте, не ложатся на степь, а уносятся, кроме зацепляющихся в траве; ложится снег там, где туча упирается в горный хребет, и притом подхватывается его ущельем.
Поднявшись на увал у поворота Ак-курган-су, я увидал обширный, великолепный вид на сырт: гряда за грядой поднимались на нём покрытые густым пожелтевшим дерном холмы, как взволнованное море; как пена на волнах, белели на них полосы снега.
Что дальше, то выше поднимались холмы, всё уступами над взволнованной степью, чаще и чаще становились на них снежные полосы, и широкой дугой замыкали горизонт с востока, юга и запада огромные зубчатые хребты, покрытые уже сплошным снегом, но и те поднимались все волнистыми уступами.
Солнце склонялось уже к закату, и освещенные снега дальних хребтов горели расплавленным золотом, рядом с которым тем холоднее казались густые, пурпурно-синеватые тени снежных же лощин. К востоку и юго-востоку выше всех, снежнее всех поднимался уступами Джа-ак-таш (Акшийряк) -- горная масса немногим только меньше и ниже самого Хан-тенгри, питающая Нарын стоком своих громадных ледников, открытых Каульбарсом; к югу, едва затуманенный отдалением, крутой зубчатый Чакыр-тау; к юго-западу заслонял его более близкий хребет Кызыл-курум, всё возвышающийся до вечных снегов вниз по течению Нарына у самого северного берега реки; с запада примыкал к Кызыл-куруму, под острым углом, снеговой же хребет, отделяющий Малый Нарын от Большого; причём самые дальние горы еще казались близкими, часах в трёх езды, а Чакыр-тау - в 50 верстах.
Хоть и спешно было, а остановился я перед этим видом, всматриваясь в его подробности, но слишком бесчисленны были планы и уступы гор, слишком гармонически сливались в чудное, хотя и пустынное целое; на одном из более близких увалов показалось опять большое стадо архаров; и несколько оживило сырт, словно заснувший в лучах вечернего солнца. Но крайняя близость последнего к горизонту напомнила мне, что еще далеко ехать.
Мы отправились по тропинке; кригиз [проводник] показал мне пальцем на угол между хр. Кызыл-курум и Мало-Нарынским, объясняя, что наша дорога идёт сперва в мелкосопочник, наполняющий этот угол. Тропинка шла версты три вдоль Ак-курган-су, которая тут уже течёт порядочным ручьём, но с слабым падением, небольшими омутами и лёгкими перекатами; омуты были подернуты льдом, но снега на дороге почти не было, кроме самых небольших полосок, на которых ясно отпечатывались следы отрядных верблюдов и лошадей.
Наконец, тропинка исчезла у ручья, на прибрежной гальке; мы переехали в сумерки, наискось поднялись на увал другого берега, а между тем стемнело, почти тотчас после заката солнца. Увалы, по которым мы ехали, были покрыты твердой сланцевой осыпью, ни тропинки, ни следа; стали искать последнего на снегу, осматривать все тощие снеговые полоски по лощинам - мало их, и следа нет, а между тем, отыскивая их, закружились: тут был лабиринт мелких сланцевых увалов и лощин, и даже наш киргиз сбился.
Чтобы не ехать неведомо куда, я решился вернуться к Ак-курган-су, вдоль которого мы разъезжали по мелкосопочнику, и поискать по берегу следы переправы. Все мы были убеждены, что разъехавшаяся с нами съёмочная партия была уже впереди и что свою совершенно неизвестную дорогу мы должны отыскать одни, хотя у нас на этот счёт растерялся даже киргиз.
Когда мы вернулись к речке, на западе еще были следы зари, но тем темнее казалась в этом направлении земля; скрылись уже во мраке снежные вершины, позже всех - ледниковый Джа-ак-тащ; по направлению нашего пути ничего нельзя было разглядеть, кроме чёрного силуэта ближних увалов.
Наконец, совсем погасла заря - и при свете звезд сделалось виднее к западу; я разглядел обледенелый мокрый след от перехода через ручей нашего отряда, проломанные им ледяные закраины, потерянная дорога нашлась, но как бы еще не потерять; решились было ждать восхода луны, - и услыхали вдали русскую песню, а затем и конский топот; подъезжала съёмочная партия; мы тронулись все вместе, гуськом вытянулись в ряд, каждый вглядываясь в дорогу, и уже не сбивались.
Ехали увал за увалом, лощина за лощиной; переезжали глубокие крутые берега и овраги с ручейками, к которым нужно было спускаться косогором; когда были у самого глубокого, взошел и месяц: затем дорога пошла всё в гору; поднявшись, увидали вдали огонёк, как звёздочку; это был наш лагерь, но еще не раз скрывался он, когда мы спускались в лощины; наконец, совсем скрылся.
Долго еще ехали мы по лощине, наконец, выбрались: справа поднялась чёрная отвесная стена утёса, слева, у самых ног лошади, отражались звезды в озере: между ним и утесом дорога была не шире сажени, но совершенно ровная. Упёрлись мы, наконец, в выступ скалы, обогнули его и очутились в лагере.
Пора было; ночная поездка казалась мне без конца, между тем как в действительности мы с заката солнца ехали менее трёх часов и проехали не более 10 вёрст. В лагере весело горел перед кошами огонь из барскаунских смолистых дров и кипел весьма кстати чайник; у огня Скорняков с Терентьевым и Чадовым обчищали снятую уже шкуру медведя.
Я не поверил своим глазам - медведь в такой совершенно безлесной степи! Конечно, я припомнил, что еще в 1864 году слышал о небольших белых медведях, живущих высоко в горах у Нарына, но думал, что они живут хоть в можжевельниках, а здесь и того не было.
Но медведь был передо мной, и хоть и не белый, но весьма светлый; подшёрсток был светло-бурый, ость с длинными, желтовато-белыми концами волос. Череп его был выпуклый, морда короткая, как у нашего стервятника, рост мал, как у нашего муравейника; светлый цвет и также малый рост приближают его к южным горным формам нашего Ursus arctos., именно к ливанскому U. syriacus и гималайскому U. isabellinus; во всяком случае, этот тяньшанский медведь принадлежит к группе видов или пород, сродных преимущественно нашему русскому Михаилу Ивановичу Топтыгину.
Признаки, сколько мне известно, исключительно свойственные тяньшанскому медведю,-- это когти и шерсть. Первые на передних ногах слишком вдвое длиннее, чем на задних, и все белы, а не черны; передние загнуты самой плоской дугой, почти прямы и тупы, задние -- гораздо круче загнуты.
Шерсть длиннее и мохнатее, чем у нашего медведя, но далеко реже, не так плотна, волос волнистый, почему шерсть разбита космами; длина волос ости до 3 - 4 дм. Шерсть совершенно одинакова и на жарком Кара-тау и на холодном тяньшанском сырту, защищая мишку, где нужно от жары, где нужно от холода: как волчья шуба знакомого мне киргиза, ходившего некогда со мной по оренбургской степи; в августе утром он выезжал в лёгком халате, а к полудню надевал шубу - и ту же шубу надел и зимой, в 20-градусные морозы.
Так и косматый, хоть и не особенно густой мех тяньшанского медведя, которого появление на сырту было мне объяснено двумя сурками с перегрызенным затылком, добытыми вместе с ним. Медведя увидали на склоне холма, рывшегося в земле; заметивши людей, он побежал через увалы.
К месту, где он рылся, подъехал Скорняков; там были раскопанные норы целой колонии сурков и набросанная земля из нор опять разрыта; лежал мертвый замерзший сурок, рядом с ним начатая раскопка, которую Скорняков с Терентьевым разрыли дальше; нашли ещё сурка, и, наконец, объедки ещё нескольких сурков.
Это показывает, что медведь, если, может быть, и не живет, в степи, то ходит туда осенью, когда заснут сурки, выкапывает их из нор - целое сурковое селение и всех выкопанных убивает, перегрызая им затылок, т. е. прокалывая клыками спинной мозг у его соединения с головным, что производит мгновенную смерть.
В о время этого разорения сурковой колонии медведь досыта наедается, а излишне убитых забрасывает вырытой землей, для запаса, к которому при голоде возвращается. За спугнутым с своей кладовой медведем погнался каракиргиз, взятый Атабеком для охоты, с фитильной винтовкой; он на скаку выстрелил и ранил медведя, которому эта пуля сначала только прибавила прыти, но скоро зверь стал уставать; киргиз, не останавливаясь в преследовании, зарядил ещё и вторым выстрелом ещё замедлил бег медведя, ещё зарядил, ещё погнался; медведь привстал на задние лапы, не удержался, присел; слез и киргиз с лошади и положил зверя третьей пулей, в сердце.
Чтобы оценить этот охотничий подвиг вполне по достоинству, нужно принять ещё в расчёт, что, кроме заряжения на бегу, нужно ещё было для каждого выстрела, всё не останавливаясь, высечь огня на фитиль, кремнём и огнивом, и затем вправить зажжённый фитиль в курок так, чтобы он попадал при спуске курка прямо на полку с порохом; вся эта мешкотная процедура потруднее на полном скаку, чем стрельба из пистонного ружья, а тот же каракиргиз из своего фитильного ружья убивал на скаку лисиц одной пулей, как я увидал впоследствии.
За медведя он, кроме полуимпериала и ситца на рубашку, получил ещё постоянное от меня снабжение порохом и свинцом, что ему было всего желательнее. А золотой он у меня же разменял на более знакомую серебряную монету.
Убитый им зверь, всего вероятнее, особый вид, хотя и близкий к U. arctos: сочетание признаков, по сходству общих ему, то с одним, то с другим видом или породой медведей, вполне своеобразно, кроме признаков, свойственных одному тяньшанскому медведю и неизменных при разнообразнейших условиях климата и местности,-- признаков длинной и рыхлой шерсти, распадающейся на космы, и, особенно, белых когтей, по которым я его и назвал Ursus leuconyx.
Длинные, почти прямые когти его передних лап похожи на сурковые и указывают землекопа; к местным различиям его образа жизни в различных местностях Тянь-шаня мы будем ещё иметь случай возвратиться. За ужином у меня в этот день было медвежье жаркое, которое я нашел вкусным, но только слишком жирным, хотя жир был срезан; подкожный слой жира был как у доброй откормленной свиньи.
Это была взрослая самка, но, судя по мягкости мяса и сухожилий, еще далеко не старая, вероятно, лет трёх, не больше. Длина её от конца носа до корня хвоста была 4 фут. 5,2 дм.; вышина в плечах с небольшим 2,1 фут., хвост без волос 1 дм.; это рост хорошего волка, только массивнее.
Средний рост медведиц того же возраста под Петербургом есть 5,4 – 5,1 фут. длины, 3 – 3,1 фут. высоты в плечах, но нередки такие молодые 6-футовой длины и 12-пудового веса, а тяньшанский весил пудов пять, если не меньше.
Убит он был уже под вечер, когда отряд подходил к оз. Баты-кичик, где мы ночевали. На следующий день, 6-го, мы выступили опять не рано; нужно было опять ехать назад для съёмки, но я, заметивши уже ночью отсутствие обнажений по дороге от гор Сары-тур к озеру, занялся осмотром утёсов у нашего ночлега, где были признаки медной руды, и отправился с отрядом прямо к Нарыну; дорога к нему шла всё увалами, а вдоль самой реки, на северном берегу, тянулись крутые, совершенно голые глинистые обрывы, между которыми и хр. Чакыр-тау Нарын, тут ещё называемый Тарагаем, множеством рукавов течёт в низких берегах и широкой долине; самая сеть протоков и омываемых ими островов раскидывается на 2 - 3-вёрстную ширину, к западу скоро сходится в одно русло, сажен в пятнадцать-двадцать ширины и с частыми бродами; сеть же протоков образуется соединением Тарагая с его главным притоком Карасаем.
Тут, у Нарына, уже совсем не было снега, хотя уровень реки всё еще значительно выше 10 000 фут., вероятно, даже достигает 11 000 фут.; день был солнечный, погода потеплела, и встречалось более птиц, нежели в предыдущие дни.
Так, нам попался весьма крупный, собственно тянь-шанский сорокопут, вроде нашего серого Lanius excubitor, но ростом почти с горлицу, с розовым оттенком на брюхе и с иным расположением чёрного и белого цвета на маховых и рулевых перьях; он преследовал горных розовых воробьев, хотя и сам певчая птица, а не настоящая хищная.
Меня всегда интересовал этот серый сорокопут и близкие к нему формы, которые, как и только что упомянутые виды и породы бурых медведей, все так похожи, что несомненно происходят от одного вида, распространившегося по всему северному полушарию, на обоих материках, от тропиков до полярных пределов леса.
Отличительные признаки всех местных пород сорокопутов незначительны, однородны: различие в росте, белых отметинах, цвете брюха и чёрной полосе через глаз или только сзади глаза, но у некоторых пород эти признаки уже постоянны, упрочены естественным подбором -- у других еще нет, первые сделались видами, последние -- нет; и именно эта неодинаковость в постоянстве однородных признаков и поучительна для решения вопроса о происхождении видовых различий, подтверждая теорию Дарвина.
Такие группы пород или сомнительных видов меня всегда интересовали, но группа форм, сродных с Lanius excubitor, интересна ещё тем, что, при крайне обширном распространении, уже упомянутом, эти птицы везде весьма редки, как не менее распространённый сапсан, или сокол-голубятник (Falco peregrinus). Не составляет исключения и тяньшанский сорокопут, которого я назвал Lanius leucopterus, по обширности белых отметин на его крыльях; этот житель подснежных высот Тянь-шаня, встречаемый еще в октябре на сырту, всего ближе к Lanius heraileucurus, Hartlaub из палящей Сахары.
Такое же замечательное сродство сыртовой тяньшанской птицы с сахарской представляет и добытая мной, в тот же день, 6 октября, у Тарагая Erythrospiza incarnata, которая от сахарской Е. githaginea отличается только жёлтым клювом, вместо красного, да более резкими белыми и розовыми отметинами на крыльях, крутом клюва и на зобу, а кроме того, рост, форма, цветорасположение и сам колорит совершенно одинаковы; впрочем, отличительные признаки, при всей мелочности, вполне постоянны, и это постоянство я проверил слишком на 20 тянынанских экземплярах, всякого возраста и пола.
Летом в поношенном пере красный цвет на перьях Е. incarnata опять, как у Е. githaginea, становится гораздо гуще и из розовых превращается в яркоалые, цвета киновари с кармином, что зависит отчасти и от того, что осеннее перо пушистее и что на красных бородках перьев есть пушок (barbillae), чистобелый, который летом стирается; кроме того, и красный пигмент перьев летом становится ярче от химического действия солнечного света, которое сильнее после летнего стирания пушка - и чем ближе к линянию, чем изношенее перья, тем ярче, потому что тем долее действует на перья солнечный свет.
Вообще, из четырех известных мне видов Erythrospiza, я в Тянь-шане и у его подошвы нашел, кроме Е. incarnata, ещё два вида Е. phoenicoptera и Е. obsoleta -- и оба гораздо более, нежели сахарская Е. githaginea, отличаются от сыртовой Е. incarnata.
Последнюю я нашёл в начале октября 1864 г. у р. Келеса, между Ташкентом и Чимкентом; почти в это же время 1867 г. на Иссык-куле и неделю спустя у Нарына, ноне иначе, как на голых глиняных обрывах, изрытых водомоинами; по крутым же безлесным утёсам, непосредственно под вечными снегами, в горах, вокруг Чатыр-куля, нашёл эту красивую птичку и Скорняков, при походе Полторацкого в конце июля и начале августа 1867 г.
Вообще, я нашел, что Е. incarnata осенью весьма постепенно спускается с подснежных высот, на которых проводит лето, в стайках постоянно особи разного возраста, старые вместе с молодыми. Они держатся так близко друг к другу, что одним выстрелом можно убить нескольких, хотя стайки и не велики, 2 - 3 выводка вместе, иногда и отдельные выводки, пара старых с 4 - 6 молодыми.
Ширина Нарына у слияния Тарагая с Джа-ак-ташем, там, где его многочисленные рукава содиняются в одно русло, доходит до 15 - 20 саж., глубина 1 - 2 арш. в осеннюю малую воду; броды весьма часты и удобны, но летом глубина возрастает и броды реже; течение умеренно быстро.
На следующий день, 7-го; мы продолжали итти вниз по Нарыну, который всё сохраняет только что описанный характер; только овраги, справа подходящие к реке, становились длиннее, более разветвлены кверху и обращались в травянистые лощины; гребень берегового хр. Кызыл-курум к западу постепенно удаляется от реки и вместе с тем возвышается.
Долины его были все бесснежны, только кверху замыкались уже снеговыми вершинами; противоположный хр. Чакыр-таупредставлял однообразный ряд голых, темных утёсов, снежных вершин, крутых и непроходимых ущелий.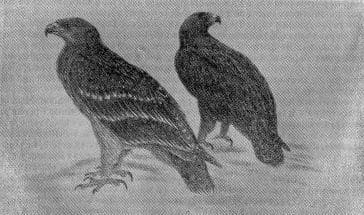
Только в трёх местах эта горная стена расступалась вроде ворот, представляя углубляющиеся в неё, довольно широкие и ровные, травянистые долины между отвесными обрывами скал; тут из хребта выходили речки, текущие в Нарын; две из них ведут к р. Ак-сай, обходя с востока вершины р. Атбаши, большого южного притока Нарына, текущего почти параллельно ему.
Самая большая из этих речек, Чакыр-курум, прорывает хребет, образовавшись в продольной долине у его южной подошвы из двух встречных речек; по этому прорыву есть дорога, а другая -- восточнее через перевал, к слиянию вершины Чакыр-курума, где обе сходятся и опять расходятся, направляясь к Уч-турнану и Кашгару; оба перехода через Чакыр-тау довольно трудны.
Сам хребет, а именно его гребень, на-глаз кажется на 1 500 - 2 000 фут, выше уровня Нарына; весьма частые пики, крутые и острые, поднимаются футов на 500 выше; гребень этого хребта над уровнем моря, я полагаю, около 13 000 фут.; постепенно понижаясь к западу, он непрерывно тянется вдоль Нарына вёрст на триста, до Тогустюря, где упирается в подходящий к Нарыну Кугарт.
У Малого Нарына А. В. Буняковский полагает абсолютную высоту Чакыр-тау еще до 12 500 фут., так показалось и мне еще вёрст двадцать пять западнее. На северном берегу Нарына впадающие в него ручьи гораздо чаще, но мельче; на одном из них мои охотники спугнули стадо кабанов, из которых три были убиты, в том числе огромный секач, пудов в двенадцать.
Весьма меня удивили кабаны на такой высоте {Кроме кабанов, в горах Кызыл-курум встречаются, по словам киргизов, еще тигры и кабланы (Felis irbis), для которых корм тут, конечно, есть: сурки, кабаны, архары, лисицы.} - более 11 000 фут., так как они были убиты значительно выше Нарына.
Нижние части лощин, где держатся кабаны, травянисты и разделяются некрутыми увалами, выше эти самые лощины становятся каменистыми ущельями между крутыми и голыми скалами. Кабаны находят убежище в скалах, а кормятся в нижних, травянистых частях лощин, где против прорыва Чакыр-курума я нашел верхний предел древесной растительности, именно альпийский тальник (вроде Salix glacialis); из его стелющегося подземного ствола, обращенного в корневище, выходят ветви не длиннее 5 - 7 дм., которые ежезимно вымерзают; высоту этого предела я полагаю около 11 000 фут.; на Шам-си, в Александровском хребте, Ф. Р. Остен-Сакен полагает {В Mém. Acad., Petersb. VII Serie, tome XIV, No 4, Sertum tianschanicum, p. 8 -9; Salix marginata, var., на высоте 10 240 - 10 880 англ. фут.} эту высоту в 10 500 фут.
Вёрст десять-двенадцать ниже по Нарыну мы увидали верхний предел другого дерева - стелющегося можжевельника, у впадения в Нарын ручьёв: Курмекты с севера и Улана - с юга. Тут резко изменяется вид Кызыл-курума: на левом берегу Курмекты он еще начинается у Нарына низкими обрывами, за которыми следуют пологие, травянистые увалы, не круто спускающиеся и в Курмекты; на правом же её берегу чёрные сланцевые скалы стоят отвестно, поднимаясь прямо от речки футов на тысячу; над Нарыном эти же скалы образуют сплошную громадную стену, саженях в пятидесяти от реки: этот промежуток и расширенная нижняя часть ущелья Курмекты покрыты сланцевым щебнем и почти совершенно без растительности.
Тут и появляется стелющийся можжевельник, кустами, рассеянными по голому щебню, у Нарына на высоте около 10 000 фут. или немного выше {Близ предела можжевельника в долине меня удивил на этой высоте древний памятник: вытесанный из цельного камня четырехугольный каменный столб, кончающийся кверху грубым подобием человеческой головы, вроде так называемых в Новороссии каменных баб.}.
В долину Курмекты можжевельник не поднимается, а на обращенной к югу скалистой стене у Нарына его верхний предел обозначен весьма резко и наискось поднимается от реки до вершины скалы, которой достигает всего в версте от крайних верхних можжевельников у реки, образующих тоже весьма явственный ряд.
На скале верхние можжевельники в этом ничтожном расстоянии от верхнего предела у реки растут уже слишком в 1 000 фут. над её уровнем, а вероятнее в 1 500 фут.; кусты кажутся небольшими чёрно-зелёными пятнами. На той же высоте, в тенистых боковых рытвинах ущелья Курмекты лежит уже снег, да притом толстыми массами, так что верхний предел можжевельника на скале можно положить не ниже 11 500 фут. Тут же и верхний предел елей, версты две западнее устья Улана, на левом берегу реки, т. е. как почти везде на горном склоне, обращенной к северу; верхние ели низкорослые,но не кривые, начинаются прямо, рощей у берега Нарына и поднимаются по рытвине всего футов на двести над рекой - до абсолютной высоты около 10,1 тыс. фут. {По измерениям А. И. Буняковского в 1868 г., верхние ели у Шамси растут на высоте 9 675 фут.; у Атбаши - до 10 760 фут., верхний предел деревьев под снеговыми хребтами. На Нарыне, судя по незначительному падению Ак-курган-су и самого Нарына, я полагал, на месте верхние ели на 2 000 фут. ниже Барскаунского перевала; этот последний - в 11 500 фут., следовательно, ели около 9 500 фут.
Но так как Барскаун, по измерению Каульбарса, около 12 500 фут., то и верхние ели на Нарыне будут, принимая в расчет и предел их на Атбаши, между 10 000 и 10 500 фут.}; против этих первых елей на северном берегу Нарына травянистая площадка, на которой мы и остановились, между тем как на левом южном берегу Нарын прямо плещет в гранитные утесы Чакыр-тау.
Еще версту далее подходит непосредственно к Нарыну и хр. Кызыл-курум; тут река уже пенится порогом в капчегае {Капчегай есть нарицательное название всякой горной теснины с значительной рекой.}, т.е. тесном ущелье, и ельники растут по обоим берегам; так до устья Малого Нарына, вёрст около сорока.
Падение его на этом порожистом пространстве можно приблизительно вычислить по разнице высот между верхними принарынскими елями и измеренной Рейнталем в 1868 г. высотой нашего нового нарынского укрепления 6 680 фут., мост 6 663 фут., а уровень реки 38 фут. ниже, около 6 600 фут.; река у верхних елей 10 200 - 10 300 фут.; разница около 3 700 фут., что и составляет падение реки на всем пространстве, но на участке между устьем Малого Нарына и мостом быстрота реки весьма умеренная, течение ровное; следовательно, тут падение реки можно считать около 700 фут. или даже 500 фут., на версту - 17 фут., а на долю порожистого 40-вёрстного капчегая придётся круглым счётом 3 000 фут. или 3 200 фут., т. е. 75 - 80 фут. на версту.
Для пройденного же мной пространства от устья Ак-куран-су до капчегая вёрст около тридцати пяти я, по умеренной и ровной быстроте течения, считаю тоже падение не более 500 фут., скорее менее; нижние концы ледников, дающих начало многоводнейшим притокам верхнего Нарына, не могут быть значительно выше 11 000 фут., при 13-тысячефутовой высоте снежной линии на хребтах сырта, а от этих ледников ещё верст двадцать-тридцать до устья Ак-курган-су.
По этим соображениям я склонен принять нижние концы ледников около 11 000 фут., уровень реки у верхних елей 10 200 -10 300 фут., устье Ак-курган-су 10 500 - 10 600 фут. Против этих верхних елей я назначил на 8 октября дневку: нужно было довести до этого места съёмку, которая всё еще продолжала отставать вёрст на пять, вследствие бессъёмочного пути 4-го в буран и безостановочного дальнейшего следования, необходимого, чтобы не остаться без топлива, взятого с Барскауна на холодном сырту; но тут у ельников и можжевельников топливо было, и я велел сделать ещё небольшой запас для ночлега на Чакыр-тау выше предела лесов, так как хотел перейти на Атбаши.
Арзамат и Атабек, которых я на каждом ночлеге расспрашивал о принарынской местности, уверяли меня, что теперь перевал к Атбаши непроходим, завален снегом; но я помнил, что они же прежде, когда не знали, что я перейду Нарын, описывали мне перевал удобным, да я и сам видел снизу не крутой и бесснежный подъём по короткой долине р. Улан, а потому киргизские представления заставили меня только припасти запас дров.
Вести наш отряд взялся Атабек и каждый день ехал впереди, но я ему назначал ежедневно куда вести, показывая направление, а это направление я соображал из топографических расспросов и у него, и у сопровождавшего меня джигита, который с ним не ладил и которого брат вёл съёмочную партию.
Расспросы были всегда общие;, о своем пути я говорил, что, не зная местности, я в такое позднее время года должен выбирать его по местным удобствам и потому вперёд не могу определить маршрут точнее того, что иду на Нарын и, по возможности, за Нарын.
До устьев Курмекты и Улана мой путь был как раз по желанию Ата-бека и пригоден для невысказанной им цели, с которой он взялся меня сопровождать, но далее уже нет. Мне нужно было проникнуть по возможности к югу, взять полный геологический разрез Тяньшанской системы на иссыккульских меридианах и нанести на карту вершины Нарына, Атбаши и Ак-сая, в дополнение к съёмке Полторацкого; Атабек же хотел пройти прямо на устье Малого Нарына, где кочевала часть богинцев, приставшая к сарыбагишам, под условием получить обратно отбарантованный у них сарыбагшнами скот.
Этих-то отделившихся богинцев и хотел заворотить Атабек для присоединения к своей волости, явившись к ним при русском отряде с неожиданной стороны, через капчегай и устье Малого Нарына. А на Атбаши, куда я хотел итти, были зимовки Умбет-алы, бывшего верховного манапа сарыбагишей, отложившегося от нас почти с половиной своего рода.
С тех пор он и держался за Нарыном, оттеснивши оттуда род чириков; свои же родовые кочевья к северу от Нарына заселил отчасти присоединёнными богинцами и охранял их набегами на пытавшихся там кочевать неподчинённых ему каракиргизов, кроме оставшихся в нашем подданстве сарыбагишей, которым он не мешал пользоваться свободными пастбищами.
Зато сарыбагиши помогали ему в разбоях и предупреждали о движении русских отрядов, как было при походе Полторацкого, которого, как и меня, те же Арзамат и Атабек старались сбить с пути, и всё с той же целью покорения малонарынских богинцев, отделения Молдур, которые, впрочем, при походе Полторацкого вышли к нему навстречу, добровольно вернулись в русское подданство и были оставлены на своих принарынских кочевьях, что я знал от Полторацкого.
Затеи Атабека я узнал только впоследствии, когда их раскрыли дальнейшие обстоятельства моего похода. Для пояснения только что помянутых каракиргизских дел и отношений считаю нелишними кой-какие разъяснения естественных условий и результатов большой баранты между богинцами и сарыбагишами, так основательно и вместе драматически описанной П. П. Семёновым {Записки Географического общества по общей географии, 1867, стр. 204 - 209.}, именно о положении богинцев, подданстве сарыбагишей и бунте Умбет-алы.
Читатель припомнит из статьи П. П. Семёнова, что сарыбагиши в 1850 г. занимали меньшую западную часть иссыккульского прибрежья, верховья Чу и долину Кебина; богинцы - восточную часть Иссык-куля, верховья Текеса и Нарына; оба рода были в мире, и дочь старшего манапа сарыбагишей Урмана была замужем за сыном старшего же манапа богинцев Бурамбая.
Повод к баранте, начавшейся в 1853 г., не упомянут Семёновым; он объясняет только причины, вообще производящие баранту у киргизов, но этот повод в настоящем случае не мог иметь никакого значения: баранта должна была быть только временно прекращавшейся и возобновляемой при всяком удобном случае, потому, что сарыбагиши стеснены кочевьями, сравнительно с богинцами; их летние пастбища занимали только хребты у западного Иссык-куля и между Сон-кулем и Малым Нарыном - и то в тех же горах были у них и зимовки; богинцам же принадлежали обширные плоскогорья на Текесе и на Тяньшаяском сырту.
Нужно ещё заметить, что сарыбагишские пастбища в горных хребтах стеснены их голыми и неприступными скалисты и частями, которых несравненно меньше на привольных плоскогорьях, занимаемых богинцами. Главным сарыбагишским бойцом против богинцев был Урман.
Топографические условия его кочевья своим военным превосходством и хозяйственной невыгодностью сравнительно с смежным кочевьем богинцев пересилили родственную связь манапов, которой они, вероятно, думали было прекратить давнишнюю вражду своих родов.
Поводом к баранте было, вероятно, ничтожное конокрадство, как почти всегда у киргизов, но раз начатая баранта превратилась в войну (джау) именно потому, что богинские пастбища были слишком заманчивы для сарыбагишей, чтобы последним ограничить баранту простым обменом набегом и угоном скота, как это большей частью бывает.
Это видно и из хода войны, рассказанного Семёновым: первым делом Урмана было занятие всего Терскея, следовательно, кроме упомянутых Семёновым пашен Бурамбая и на Кызыл-унгуре, ещё и занятие всех удобных подъёмов с Иссык-куля на сырт, из которых последний подъём и востоку идёт через ущелье Зауку и по долинам заукинской и барскаунской Дёнгереме к Барскаунскому перевалу - главному ключу сырта по расположению продольных долин, с востока и запада сходящихся к его удобному подъёму.
Предположенный Урманом и не удавшийся ему захват в плен богинского манапа Бурамбая с семейством едва ли мог иметь другую цель, кроме упрочения сарыбагишских территориальных захватов в эту войну. Чтобы объяснить это соображение, посмотрим различия внутреннего устройства богинцев от сарыбагишского, зависящие всё-таки от топографических условий кочевания тех и других.
Между тем как область сарыбагишей разделена на три естественных участка хребтами, дороги через которые проходят тесными ущельями, богинская -- вся сплошная, так как её два участка -- иссыккульский и кегенский - не разделяются, а сообщаются широкой и вполне удобной санташской седловиной и многими лёгкими перевалами от Тюпа к Кегену, западнее Санташа, а открытый и высокий сырт к Нарыну не составляет такой крепости, как Караходжур.
Не составляют крепости и вершины Текеса, в небольшой котловине между Хан-тенгри и Текес-тау; они слишком отделены трудными хребтами от хороших кочевых угодий, между тем как перевалы к Караходжуру почти все и легко защищаемы и удобопроходимы, что дает хороший центр набегов.
Крепкие же местности богинцев разбросаны по ущельям множества речек, что раздробляет их на множество волостей, каждая со своим ущельем, но из всех ущелий потребности земледелия и скотоводства заставляют богинцев выходить на обширные общие угодья; особенно непрерывны и собраны иссыккульские пашни и зимовки - и этому топографическому условию соответствует один старший манап, при множестве волостных.
Таковы топографические условия, делавшие естественным преобладание старого Бурамбая в роде богу, без выдающихся, почти независимых подручников, каковы были у сарыбагишей. Поймавши Бурамбая с семьёй, Урман мог обратить враждебный род в стадо без пастыря и бить мелкие волости без труда, а затем, обессиливши их, выпустить Бурамбая с семейством, упрочивши за собой захваченные угодья.
Но Урман при своем нечаянном нападении был сам убит, сарыбагиши оттеснены, однако его сын Умбет-ала успел нечаянно "почебарить" [разорить] богинские аулы, обманувши вступившее против него ополчение и захвативши семью Бурамбая, вернул и увеличил отцовские завоевания: род богу был совсем прогнан с Иссык-куля на Кеген и Текес; тут Бурам-бай принял русское подданство в 1856 г.
И после того нападения богинцев на Умбет-алу, чтобы вернуть иссыккульские угодья, были безуспешны; только ежегодные походы русских отрядов на Иссык-куль заставили Умбет-алу, узнавшего уже русскую силу, хоть и не на себе, покинуть свои исеыккульские завоевания, чтобы избегнуть столкновений с нами, на его глазах дорого стоивших кокандцам на Чу; а когда покорился Джантай, то покорился и Умбет-ала, чтобы в свою очередь не быть стеснённым русскими и в родовых кочевьях в пользу богинцев.
Между тем умер старик Бурамбай, бывший последним манапом всех богинцев. После его смерти этот род раздробился на мелкие волости, которых старшины стали непосредственно подведомоственны русскому начальству.
Так было дело в 1863 г., когда Умбет-ала взбунтовался и неожиданно напал из устроенной им засады близ Сон-куля на небольшой отряд поручика Зубарева, доставлявшего кой-какой провиант рекогноцировочному отряду капитана Проценко.
Повода к бунту с нашей стороны не было, но причины его те же топографические, как и для баранты с богинцами. Потерявши от русского вмешательства захваченные угодья, аулы Умбет-алы были стеснены кочевьями на своих родовых землях; там хватало корма только вследствие потерь скота в семилетнюю баранту (1853 – 1860 г.г.), вследствие которых и сама баранта после 1857 г. постепенно ослабевала.
Нужно было оправиться: отсюда и подданство России, и мир со всеми соседями, но мир временный, при котором размножение скота опять вызывало потребность в распространении кочевьев на счёт соседей. Для этого Умбет-ала точил зубы на занарынских чириков, подведомственных тогда не России, а Коканду, и управляемых вместе с саяками из Куртки.
При походе Проценко Куртка была без выстрела покинута слабым кокандским гарнизоном, а чирики поспешили принять русское подданство, рассчитывая, по опыту богинцев, сохранить свои родовые угодья. Это подданство чириков разрушало расчеты Умбет-алы и было поводом к его бунту: его собственное подданство России, всегда не искреннее, становилось согласием на веки ограничиться тесными родовыми кочевьями.
Умбет-ала прошёл по всему Караходжуру на малый Нарын, перешёл Большой Нарын близ его истоков, оттеснил занарынских чириков и в долине Атбаши нашёл себе крепкий притон и центр набегов не хуже карахо-джурского; там устроился пашнями и зимовками, а летом бродил по сырту, причем грабил и кашгарские караваны, шедшие торговать с каракиргизами из его аулов, и барантовал со всеми соседями: и с саяками, и с богинцами, которых оттеснил с верхненарынского сырта беспрестанными угонами скота во время летнего кочевания.
Тут он покорил и переселил на Малый Нарын богинское отделение Молдур, да и много других богинцев были захвачены враздробь, отдельными аулами; Умбет-ала, отложившийся с 5 - 6 тыс. кибиток, имел к 1867 г. уже свыше 8 тыс. кибиток и кочевал с ними на огромном пространстве, от Караходжура и вершин Нары-на до Чатыр-куля, Ак-сая и Арпы, т. е. вёрст пятьсот с северо-востока к юго-западу и вёрст триста с северо-запада к юго-востоку, по всем сыртам у долин верхнего Нарына и Атбаши.
Из богинцев, опять подвергшихся нападениям Умбет-алы, наиболее страдали от них юго-западные волости у Барскауна, подведомственные старшинам Арзамату и Атабеку: дело дошло до того, что эти волости потеряли почти всякие джайляу, так как их стадам было слишком опасно подниматься на сырт {Куда, однако, зимой выгонялись табуны, так как снега на сырту зимой ничтожны и накопляются весной.}; они должны были ограничиться узкими продольными долинами у Барскауна и Тона, да и то в горах у юго-западной части Иссык-куля подвергались набегам распространившихся туда, по уходе Умбет-алы, сарыбагишей из аулов Тюрюгильды.
Потому-то эти богинские старшины, не получавшие уже помощи из других волостей своего раздробившегося рода, и принимали живое участие в походах сперва полковника Полторацкого, а потом в моём. Их волости таяли: подведомственные кибитки примыкали к другим, наделённым более обширными и безопасными угодьями.
Вот что тоже тянуло Атабека на Малый Нарын, но без полного покорения Умбет-алы он всё-таки не мог безопасно кочевать на сырту, а я имел в виду только безопасное географическое и вообще научное исследование внутреннего Тянь-шаня, и потому думал не нападать на Умбет-алу, а разве отразить его нападение, если случится.
Атабек опасался близкого соседства Умбет-алы с нашим отрядом, который казался ему маловатым. Он ожидал только, по походу Полторацкого, что на следующий год мы укрепимся на Нарыне, и хотел с осени присоединить к своей волости кое-какие уведённые туда Умбет-алой аулы, да высмотреть себе поудобнее дополнение на сырту к своим тесным летним кочевьям.
Южнее Нарына шедшим со мной богинцам искать было нечего, потому они и не желали переходить Нарын, пока не явится туда русский отряд посильнее моего. Впрочем, и при моем отряде, как увидим далее, Атабек не особенно, боялся грозного богинцам Умбет-алу; Атабек был сам батырь, отличавшийся в прежних барантах, и между своими родичами слыл храбрым.
Это был красивый, атлетический мужчина, лет с небольшим 40 на взгляд, а действительно, пожалуй, и старше, сильный и ловкий, лихой наездник и охотник, но нелюбимый в своих аулах за спесь и жадность. Никогда его собственная скотина не шла в подводную повинность: всё с подчинённых, жаловавшихся мне и на поборы своего старшины.
Он много хитрил, но ума былз посредственного и потому мало обманывал. Что же касается до его неразлучного друга Арзамата, ходившего тоже со мной, то он был етарше Атабека, ниже ростом, скуласт, курнос, толст и прост, а потому совершенное эхо Атабека - откуда и дружба.
И насчет спеси и жадности Арзамат неуступал своему соседу, другу, руководителю и образцу Атабеку. На любезный ему Малый Нарын Атабек заманивал меня под предлогом охоты на тигров и кабанов, на которую просился было и отделиться от отряда со своими джигитами, но я пока не пускал никого далеко отделяться от отряда, и на дневке 8 октября, у устья Улана, никому не говорил, куда пойдём дальше, съёмочную же партию направил немного вниз: по Нарынскому капчегаю, когда съёмка было доведена до места нашего лагеря.
Кроме того, я в эту дневку сделал опять попытку добыть кумая на приманку, для чего воспользовался убитыми накануне кабанами, от которых сохранил головы и окорока {И шкуру для сравнения сыртового кабана с степным; разницы не оказалось.}, а ребра и внутренности выложил на приманку, с раннего утра заметивши кумаев и бородачей, вылетавших из Чакыр-тау. Я видел их и накануне; они заметили убитых кабанов, которые некоторое время лежали на месте, пока за ними не были высланы верблюды.
К выложенной приманке отправились Катанаев с Гутовым; кружившиеся кумаи были видны и мне, но не решались спускаться к приманке, которая была положена в нижней части ущелья р. Улана, с подходом из-за скалы; тут Катанаев и Гутов устроили засаду из еловых жердей, прикрытых камнями. Кумаи следили за их движениями и видели ходящего Гутова; Катанаев спрятался под нависшей над Уланом низкой скалой, и пока птицы летали над его товарищем, неприметно заполз в засаду; Гутов совсем ушел.
Часа два еще я видел кружащихся кумаев; они спустились в ущелье, часа в три пополудни, т. е. через 5 часов после устройства засады, уже успевши забыть спрятанного Катанаева, который всё это время прождал. Через несколько минут я услыхал выстрел; кумаи поднялись, Гутов сел верхом и повёл лошадь Катанаеву для переправы через Нарын; еще немного спустя явились оба, с огромным кумаем, которого Катанаев подстрелил, когда он размахивал крыльями, чтобы подняться, услыхавши шорох и увидавши высовывающуюся из засады винтовку; пуля как раз перебила ему первую кость поднимавшегося крыла, не задевши тела, так что если бы кумай был менее чуток и продолжал бы клевать приманку с сложенными крыльями, то выстрел был бы промахом.
Эта засада, в связи с прежними неудачными попытками добыть кумая на приманку, показала мне трудность охоты за ним, так как он далеко осторожнее всех других грифов, которые, жадно спускаясь на приманку, всегда просмотрят спрятанного за стенкой или скалой человека, а усевшись, допускают и открытый подход.
Это я замечал и в Туркестанском крае, где и черный гриф (Vultur cinereus) и жёлтый (Gyps fulvus) также жадны на падаль и не осторожны в виду её, как описывает А. Брэм в рассказах про свои наблюдения грифов в Африке.
Жёлтые грифы, налетающие на падаль, то и дело пролетают на выстрел от охотника; так был убит в лёт и попавшийся раз в мою коллекцию на Чирчике; кумай никогда не ведёт себя подобным образом. Добытый 8 октября был огромен, едва уступая ростом крупнейшим кондорам Южной Америки; длина его от конца клюва до конца хвоста 4 фут. 3 дм.; размах крыльев 9 фут. 7 дм.; это была взрослая самка, но половое различие в росте грифов незначительно {Экземпляр, присланный генералом Колпаковским в музей Московского университета, еще огромнее; на ярлыке отмечена длина 4 фут. 7 дм., размах крыльев 10,1 фут.}. Весов со мной не было; на руку вес этого кумая показался мне между пудом и полупудом, фунтов в тридцать.
Мне кажется, что именно кумай есть огромная хищная птица Памира, упоминаемая и китайскими писателями, с большими преувеличениями, хотя, помнится, Григорьев относит эти показания к бородачу (Восточный Туркестан Риттера, перев. В. В. Григорьева, стр. 459, примеч. перев. (CD, V, 4); птица бадахшанекий дяо (орел).).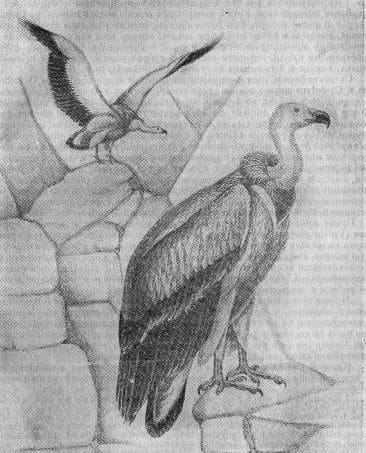
Но бородач только в размахе крыльев достигает размеров кумая, и то редко; телом он далеко меньше, да и крылья уже представляют меньшую поверхность; летая рядом с кумаем, что весьма нередко, он кажется сравнительно невелик, по своему почти соколиному складу крыльев и малому против огромного хвоста туловищу; притом он не распластывает крыльев, как кумаи и грифы, даже при самом плавном пролёте.
Сверх того, его часто видишь вблизи, на каждом перевале; при этом виден его действительный рост: громадный и вместе крайне осторожный кумай, которого вблизи увидит один из тысячи, а издали в горах всякий видит ежедневно, скорее может подать повод к преувеличениям и сделаться легендарной птицей; и мои казаки все говорили о кумае, а не о бородаче, как о крылатом чудище Тянь-шаня.
Не подходит только к взрослому кумаю черный цвет бадахшанского дяо, так что тут может быть и преувеличенное известие о черном грифе Vultur cinereus, но не о бородаче. Впрочем, молодой кумай также тёмного цвета.
Первый экземпляр кумая, молодой, был добыт в Семиреченском Алатау Карелиным и доставлен в музей Академии наук; он темнее старого, всё мелкое перо чернобурое, с бледножелтоватыми наствольными полосами, весьма широкими на брюхе; цветом похож на фигуру Грэя (Gray) в Illustrations of Indian Zoology, изображающую Gyps indicus, почему карелинский экземпляр был и назван этим именем в музее академии; другой, тоже с Семиреченского Ала-тау и тоже молодой, присланный полковником Абакумовым, достался богатой частной, полнейшей коллекции птиц генерала Плаутина.
Мой экземпляр был третий, и первый из добытых взрослый, цветом как описанный выше, рассмотренный в зрительную трубу у перевала Карагай-булак, только не так бел и, следовательно, не так стар, почему, может быть, и попался под пулю.
Карелин, видевший, вероятно, сходство его цвета издали с Neophron percnopterus (Cathartes percnopt. Temm), назвал его огромным Cathartes нового вида, в чём справедливо только то, что это новый вид, но не Cathartes, а Gyps, близкий к G. fulvus; я назвал кумая Gyps nivicola, так как видал его постоянно, так же, как и Карелии, в близком соседстве вечных снегов.
Gyps indicus вдвое меньше, не более обыкновенного орла, 2,2 - 3 фут. в длину, 6,1 - 7 фут. в размахе, тёмен во всяком возрасте и живёт только в лесистых тропических низинах Индии и Африки, не поднимаясь в горы. Gyps fulvus, обитающий и на Тянь-шане, тоже живет ниже G. nivicola, который гораздо крупнее, несравненно осторожнее, иного цвета и с иными возрастными изменениями в цвете и форме перьев; признаки его постоянны. Они видны издали и проверены мной не на одном десятке летающих птиц, а на многих - в зрительную трубу.
Распространение кумая очень ограничено - не севернее Семиреченского Ала-тау, где он редок; во всех хребтах кругом Иссык-куля обыкновеннее, но не особенно многочислен; более многочислен на снеговых хребтах за Нарыном и у Ак-сая, где эта птица, повидимому, достигает центра своего распространения; южная граница, в нагорье, связывающем Тянь-шань с Гималаем, неизвестна, но на самом Гималае кумая, повидимому, нет; там упоминается только Gyps fulvus, по крайней мере для индийского склона, вместо G. indicus жаркой индийской низины.
От Гималая G. fulvus огибает западные и северные склоны Тянь-шаня, где встречается повсеместно; к северо-востоку я его проследил почти до Санташа, но внутри нагорья не видал нигде; там кумай. Западная граница распространения последнего - около западного конца Иссык-куля и может быть, что к югу он проникает до внутренних хребтов Тибета.
Незначительное распространение кумая, весьма малое для такого отличного летуна и притом беспримерно малое именно в семействе грифов, которых все прочие виды живут на огромных пространствах, объясняется, однако, весьма естественной теорией Дарвина, если принять в расчет сродство кумая с Gyps fulvus, его холодные подснежные жилища, оседлость в них и найденные мной в Тянь-шане следы ледникового периода.
Можно допустить, что в это время из тяньшанских грифов естественным подбором образовалась применяющаяся к горному холоду порода кумая и упрочилась в своих признаках до видовой самостоятельности, после же распространился с юго-запада средиземный Gyps fulvus, и теперь отлетающий на зиму с Тянь-шаня, а местный кумай поднялся выше в горы; его распространение именно ограничивалось распространением G. fulvus, более плодящегося, хотя и выводящего одного только птенца, но ниже в горах и ранее весной, при более благоприятных условиях роста этого птенца, который в конце июня уже летает; почему этот вид грифов и многочисленнее кумая, хотя мельче, и своей численностью удерживает распространение кумая, которого область в среднеазиатских горах с северо-запада, запада и юго-запада окружена областью Gyps fulvus.
Сходство формы, цветорасположения и нравов между G. nivicola, G. indicus и G. fulvus делает весьма вероятным, что эти три вида выделились в ледниковый период из одного, не оставившего неизменных потомков; но тот факт, что G. indicus во всех возрастах весьма похож цветом на молодого G. nivicola, указывает, что первый составляет, вероятно, наименее изменившееся потомство общего родоначальника, который, повидимому, был средней формой между G. indicus и G. nivicola, а G. fulvus по своим возрастным изменениям цвета представляется позднейшей, послеледниковой породой, применившейся к сухому уже и жаркому климату.
Впрочем, каждый из этих трех теперешних видов представляет своеобразное сочетание уцелевших и изменённых признаков родоначальной формы, и восстановление первых, всегда гадательное, всего еще надежнее по сочетанию неизменяющихся с возрастом признаков G. indicus и G. nivicola.
Кроме кумая и бородача, я видел ещё у Чакыр-тау и чёрных грифов (Vultur cinereus), летающих над сыртом у Чакыр-тау; вообще фауна сырта оказалась неожиданно богатой, если принять в расчёт его огромную высоту, позднее время года и чувствительные холода, при которых зоологический сбор с 4-го уже не препарировался ежедневно, а более замораживался, так что при дневке 8-го препараторам оказалось много работы с медведем и кабаном {Добыты за эти дни: 5 октября на Ак-курган-су: Leucosticte brandtii, Alauda albigula, Accentor fulvogularis n. sp.; 6-го у Нарына: Anthusaquaticus, Accentor fulvogularis, Lanius leucopterus n. sp., Erythrospiza inoarnata n, sp.; 8-го в Чакыр-тау: Gyps nivicola n. sp.; в елях и можжевельниках у Нарына: Turdusatrogularis и Turd. dubius, Bechst (mystacinus, nob.); 9-го у Улана: Sturnus purpurascens. Gould, Cinclus leuco-gaster, Accentor fulvogularis, Leucosticte brandtii.
Замечены на сырту и Чакыр-тау, выше елей: Vultur cinereus, Gypaetos barbatus, Falco tinnunculus, Circus cyaneus, Athene orientalis, до 7-го никогда не встречавшаяся мне даже в предгорьях, а все в низших степях до подошвы хребтов, до 2 000 - 3 000 фут, а тут замеченная на высоте 11 000 фут. в Кызыл-куруме, где я своими глазами её ясно признал; ещё, и тут же, Saxicola leucomela, Saxicola salina, всё степные формы, но, пожалуй, заблудившиеся на пролете; Fringilla nivalis, Fregilus graculus, Corvus corax, C. corone, C. cornix; Perdix daurica до высот в 11 500 фут. везде; Ruticilla phoenicura, R. erythronota; Siolopax hyemalis, на гальке у Тарагая, до И 000 фут.; всего, выше елей, найдено в 5 дней октября 25 видов птиц.}.
Я тоже остался в лагере и занялся приведением в порядок геогностических образцов, собранных при походе от устья Барскауна до Нарына, и составлением по ним геологического разреза, по которому оказывается, что часть сырта между вершинами Барскауна и гранитным северным склоном Чакыр-тау есть углубление в кристаллической породе, выполненное изогнутыми пластами метаморфических осадочных пород.
9 октября я переправился через Нарын, весьма удобным бродом, я направил отряд вверх по р. Улан; перевал мне описывали непроходимым, но я видел ущелье, кверху расширяющееся, и отлогий подъём, а потому решил попробовать, тем более, что слышал про непроходимые снега, а видел бесснежный, травянистый склон и белые полоски снега только у самой вершины.
Потому все толки о трудностях пути я относил к нежеланию моих киргизских спутников итти на Атбаши в близкое соседство Умбет-алы, объяснённых выше малонарынских стремлений Атбека я еще не знал, да и без них я понимал, что для людей, не имеющих научной цели, чем короче октябрьский поход по высочайшим частям Тянь-шаня, тем лучше; понимал также, что за их усердием содействовать моим исследованиям скрывались собственные цели (объяснённые выше), которых они не высказывали до времени, но желали поскорее достигнуть и вернуться домой.
Понимая всё это, я не очень-то верил киргизским рассказам о трудностях пути, на зато понимал также, что приходится итти наугад и высматривать свой маршрут самому, что в этот день и началось. До Улана же я вполне мог полагаться на Атабека; мой путь к истокам Атбаши тут совпадал с задуманнным им, как объяснено выше, походом нашего отряда к устьям Малого Нарына.
Улан весьма недлинная речка, не шире 2 саж. и весьма порожистая. Правый, восточный край её долины есть обрывистая, каменная стена, у подошвы которой течёт речка; левый край от речки начинается тоже обрывом, за ним следует довольно широкая, отлогая и травянистая покатость к речке, пересечённая плоскими лощинами и упирающаяся в отвесный край долины; перед выходом из гор, где был убит кумай, речка отходит от утёсов левого края долины и течёт в её середине, в неглубокой, но крутоберегой рытвине.
Дорога вверх идёт по отлогому травянистому косогору, между речкой и правым краем долины; на половине подъёма встречаются два истока Улана, текущие почти навстречу друг другу с юго-востока и запада-юго-запада; первый значительнее и течёт в мрачном, непроходимом ущелье, между почти отвесными скалами, поднимающимися до обледенелых вечных снегов, т. е. слишком на 1 000 фут. над речкой; западная же вершина течёт между крутой скалой, быстро понижающейся вверх по речке, и отлогим косогором на её левом берегу, где идёт дорога, поворачивающая тут к юго-западу; с этого поворота я оглянулся назад: мы были еще ниже вершины громадного сланцевого обрыва Кызыл-курума, на правом берегу Нарына, но глаз уже далее проникал в мрачную трещину этого обрыва, по которой течёт Курмекты, впадая в Нарын, как мы видели, как раз против Улана.
Вверх по Курмекты поднимается кочевая дорога через Малый Нарын к истокам Тона и вниз по последнему к Иссык-кулю. По этой дороге, по словам киргизов, много тесных ущелий, и частые перевалы через северные отроги Кызыл-курума, перевалы не особенно высокие, но крутые и каменистые.
И наша дорога вверх по Улану версты две выше слияния его вершин уперлась в утёс, слева подходящий к самому руслу; пришлось итти по крутому косогору из рыхлой, выветренной осыпи слюдяного сланца и вытаптывать тропинку под невысоким, но отвесным обрывом к речке. Такого худого пути было, впрочем, не более 20 саж.; выше подъём опять удобен, до самого перевала.
Обогнув скалу, мы очутились в эллиптической котловине, в которой речка течёт уже с запада, описывая дугу, выпуклую к югу; покатости к речке тут уже все довольно отлоги, и перевал тут в виду. Спуск от него к речке был покрыт сплошным снегом; на противоположном склоне, тоже снежном, были частые и широкие проталины - на высоте глазомерно около 2 000 фут. над Нарыном, т. е. свыше 12 000 фут. абсолютной. Тут, на широкой проталине с густой травой, Атабек предложил мне остановиться, указывая на сплошной снег к перевалу, причём утверждал, что мы, и переваливши, не выберемся из снега в этот день, так как верхняя часть долины южного Улана в это время года снежна более, чем на полдня пути.
Я же, видевши бесснежный до такой высоты подъём на северном склоне хребта, ожидал ещё менее снега на южном, что и высказал, говоря, что ручаюсь за ночлег на бесснежной площади с хорошим кормом, не далее 5 вёрст за перевалом.
Поэтому я продолжал подъём, тем более, что при предлагаемом мне ночлеге часа в два пополудни переход наш за этот день был бы не более 10 - 12 вёрст. Мы пошли вдоль левого берега Улана вверх, всё к западу, до сплошного снега; тут Улан был уже ничтожным ручейком, в плоских берегах, но еще не совсем замёрз; перешагнувши его, мы наискось к востоку весьма отлого дошли до перевала по сплошному, но неглубокому снегу; у вершины, между тем, собрались облака, и, вошедши в них, мы уже не могли видеть Нарын, Кызыл-курум и принарынсквй сырт.
На этом подъёме под крутыми утёсами у слияния вершин Улана я нашёл довольно много архарьих черепов и притом двух видов: а) обыкновенного семиреченского и заилийского архара (Ovis karelini, nob.), весьма, впрочем отличного от описанного П. С. Далласом, алтайского и забайкальского О. argali, с которым его до сих пор смешивали, и б) другого вида, с первого взгляда отличавшегося более сжатым впереди глазниц черепом и более вытянутыми рогами.
Последнему виду я весьма обрадовался, считая его за редчайшего Ovis polii, что потом при более обильном материале и подтвердилось. Этот вид был известен только по паре рогов, без черепа, добытой лейтенантом Вудом у истока Аму-дарьи; потом Семёнов видел па сырту, у подошвы Хан-тенгри, огромных темнобурых (летом) архаров, ростом почти с марала, с колоссальными рогами, которых киргизы назвали ему качкарами, он отнес их к О. polii {Рис. Ovis polii u Ovis karelini см. на стр. 199.}, как я нашел потом, справедливо.
Ещё более значительное скопление черепов, но все О. karelini, я заметил 7-го и 8-го под отвесными утесами Кызыл-курума, при выходе из гор р. Курмекты; таким образом, обозначились границы обоих видов, а внимательное рассмотрение валяющихся черепов, их возраста, положения, степени сохранности, во многом разъяснило мне образ жизни архаров; об этом при описании дальнейших наблюдений.
Глава четвертая.
Ущелье южного Улана. Большие проталины у вечных снегов. Трудный овраг Байбиче-сай. Озёрные осадки. Медведи, их распространение на Тянь-шане. Верхняя долина Атбаши. Тас-асу, перевал к Аксаю. Вид аксайского сырта. Качкар, его нравы и распространение. Первый добытый качкар, охота за ними. Река Аксай. Горы Кок-кия. Горы Бос-адыр. Аксайские рыбы и птицы. Обратный путь, горы Уюрмень-чеку; ошибочность присвоения собственно им названия Тянь-шаня. Вид с аксайского сырта на Теректы и Чатыр-куль. Тэки с гор Кок-кия.
Вершина перевала Улан есть неширокий гребень, который был покрыт только рыхлым снегом, не глубже полуаршина; следовательно, до вечных снегов не достигал. Мы вышли на перевал в том самом месте, где начинается спуск по лощине, довольно плоский, направляющийся под весьма острым углом, почти прямо к западу, к правой вершине Атбаши, которая зовется также Уланом, согласно киргизскому обычаю давать одно имя двум рекам, стекающим в разных направлениях по обе стороны одного перевала.
Всего шагах в пятидесяти восточнее гребень перевала отвесно обрывается в тёмную пропасть, на дне которой, еще с полверсты восточнее, находится исток южного Улана, футов на триста под гребнем перевала; он течёт в продольной не долине, а скорее трещине хребта.
Лощина, по которой мы спустились, идёт рядом с этой трещиной; её левый, южный край отлого поднимается на 10 - 15 саж. над её дном, к отвесному обрыву над речкой; правый, напротив, гораздо выше седловины перевала, крут и скалист, на дне лощины водомоина, книзу все углубляющаяся.
Вся эта лощина была занесена снегом; однако, на утесах её правого края были частые проталины, на высоте слишком 12 500 фут.; по этим проталинам перепархивали пепельно-серые птички, ростом не больше овсянки, с розовыми сгибами крыльев и розоватым надхвостьем.
Они были довольно осторожны, однако нам удалось добыть экземпляр, который оказался принадлежащим к полярно-сибирскому роду Leucosticte, но особого, исключительно тяньшанского вида L. brandtii, Bonap, открытого Карелиным на Семиреченском Ала-тау; потом эта птичка была летом добыта моим помощником Скорнякорым на самих гребнях перевалов около Чатыр-куля, а мне в настоящий поход уже попалась по утёсам у вершин Ак-курган-су и в октябре на высотах не менее 11 500 фут.
Это самая строго альпийская птица Тянь-шаня; живущий на тех же высотах и тут же у перевала Улан замеченный европейский Fringilla nivalis, снеговой воробей, встречающийся и около вечных снегов Альп и Кавказа, на Тянь-шане хоть в декабре и январе спускается в подгорную степь, где попадался в мою коллекцию в 1864 и 1866 г.г., а L. brandtii внизу - никогда, и, по видимому, никакие зимние морозы не сгоняют эту птичку с высот.
В Западном Тянь-шане, западнее линии от истока Кара-ходжура к долине р. Арпы (верхнее течение р. Алабуги) L. brandtii не встречалось; у Сон-куля её нет, тамошнее плоскогорье и гребни хребтов ей уже низки, хотя на них держится Fring. nivalis.
Спустившись по упомянутой лощине к южному Улану, мы нашли его замёрзшим, а ущелье занесённым глубоким, но свежим снегом; оно извивалось между спускающимися справа и слева мысами, на которых чернели, высовываясь из снега, голые отвесные утесы; мало снега было и на крутых каменных осыпях, обращенных к югу.
Но, пройдя по ущелью версты три, мы вышли, как я и ожидал, на бесснежную поляну; она спускалась к речке обращенным к югу отлогим скатом, намытым снеговой водой из встречающихся тут двух рытвин; эта поляна густо заросла одним из лучших кормов для скота, кипцом (Festuca sp.), и подо льдом Улана, тут уже нетолстым, нашлась вода; немного ниже Улан уже бежал открытой струёй с ледяными закраинами у берега, а на левом крае его ущелья тут же спускались обнаженные ветром, заледенелые, синеватые вечные снега, кончаясь не выше 100 фут. над речкой.
Тут мы и остановились, и я уже стал твердо надеяться дойти до Аксая и вернуться без задержки от снега на перевалах, видя свежий снег, стаявший почти до пределов вечного. Поднявшись на другое утро, 10 октября, с этого ночлега, мы с версту опять прошли почти сплошным снегом, по небольшому косогору левого края долины, мягкому и отлогому, образованному выветренной осыпью у подошвы обрывистых утёсов, которые при довольно крутом падении речки поднимались над ней всё выше и выше, все увенчанные снегом. Ущелье здесь совершенно имеет характер трещины; вся ширина его дна занята узким руслом Улана.
Еще версты через две в него с левой стороны начинают впадать небольшие ручьи, круто падающие по боковым оврагам; ущелье расширяется, скалы его левого края отступают от речки почти на версту, и пространство между ними и руслом занято уступом из глины с мелкой галькой, поднимающимся сажен на двадцать пять над речкой. Частые ручьи, текущие в Улан, обращают этот уступ в ряд довольно отлогих увалов, разделённых рытвинами, в которых из-под глины часто выступает камень; так версты на четыре, на которых я заметил постепенное расширение прогалин на снегу; затем уступ, по которому до сих пор мы шли по левому берегу речки, замыкается крутым утёсом, и дорога переходит на правый берег, на котором постепенно поднимается весьма узкой тропинкой на крутейший косогор из мягкой и рыхлой желтоватой глины.
Это осыпь сланцевых скал, образовавшаяся по мере их выветривания и лежащая на уступе скалы, находящемся на уровне реки при переправе. В трещину уступа река постепенно углубляется, так что, наконец, осыпь примыкает к отвесной трещине, и тропинка идёт саженях в ста и даже в ста пятидесяти над речкой, не видной в темноте, даже в полдень ясного дня, когда я проходил эти места.
Тропинка, и без того узкая, местами прерывалась на рыхлой осыпи, нам часто приходилось её вновь вытаптывать в рыхлом суглинке, который, впрочем, хорошо уступал давлению копыт, так что, вися над бездной, не было действительной опасности в неё свалиться; вообще тропинка идёт у самой подошвы скал, поднимающихся над глинистым косогором.
Такого пути - вёрст шесть, и на половине этого расстояния является стелющийся можжевельник, сразу поднимаясь на несколько сот футов поперёк косогора, как на Нарыне; он и здесь растёт только по солнечной стороне ущелья.
Местами этот косогор суживается выступающими из-под него утесами, ещё круче его падающими к Улану, который тут уже совершенно не виден с дороги, завешенный в своей тесной трещине кустами можжевельника.
Далее вниз по Улану дорога спускается во второе расширение долины, на глиняный уступ, поднимающийся над рекой сначала не более 30 - 40 саженей, но потом все более и более по мере углубления русла, так что частые овраги, пересекающие этот уступ, что далее, то глубже.
Особенно трудно проходим овраг Байбиче-сай,в который я съехал наискось по крутейшему косогору, тропинка была совершенно испорчена размытиями и осыпями; однако, надёжные горные лошади нигде не споткнулись, и мы благополучно спустились к небольшому ручью, бегущему по дну оврага; тут уже только в редких рытвинах по бокам Байбиче-сая виднелись остатки снега, и ручей струился даже без ледяных закраин. Подъём был труднее спуска; дорожку, намеченную следами наших лошадей, нужно было кое-где расчищать мотыгой, что, разумеется, успели сделать весьма недостаточно. Наши верблюды были сзади; они подошли вскоре после того, как я выбрался из Байбиче-сая; солнце было еще высоко.
Первые верблюды благополучно спутились по нашему следу, но затем один соскользнул с места, где прерывалась тропинка, и расшибся вдребезги, скатившись сажен на 20 по крутому косогору, кончающемуся подмытым обрывом; вся глубина оврага на месте переправы мне показалась сажен шестьдесят или семьдесят. Остальных верблюдов провели вниз боковой рытвиной, весьма круто спускающейся, со скатом около 30°, но несколько извилистой и потому безопасной.
При медленности, с которой спускались верблюды шаг за шагом, ощупывая землю, переход их продолжался слишком 2 часа; последние перешли овраг в сумерки, а передних я безостановочно направлял вперед, так как Байбиче-сай по глубине оврага с водой был весьма неудобен для остановки.
У его устья в Улан показались первые ели; тут рытвина речки немного расширяется, и на правом берегу, напротив елей, растёт густой можжевельник; по соображениям, уже объяснённым по поводу нарынских елей, я полагаю предел ели на Улане около 10 000 фут., причём замечу, что он на Улане может быть и несколько ниже, чем на Нарыне.
Вверх по последнему ели поднимаются к открытому и потому более нагреваемому сырту, а по Улану - в тесное холодное ущелье, до вечных снегов, представляющее характер трещины. От вершины перевала предел елей по дороге находится верстах в двадцати, прямолинейно - меньше.
Выехавши из Байбиче-сая, я вскоре при начале переправы верблюдов услыхал в елях два выстрела: Катанаев убил медведя, совершенно такую же светлую самку, как описанная выше, добытая у оз. Баты-кичик, только моложе и меньше, длиной около 4 фут.; её нельзя было вытащить целиком из уланского оврага, а потому препараторы отправились снять шкуру на месте, как нужно для набивки, причём привезли и часть мяса; они уже были готовы с этим делом, когда последние верблюды переправлялись через Байбиче.
Шерсть у этого медведя была ещё длиннее, чем у первого, но вместе с тем рыхлее и косматее; сам - не более крупного волка. Я дождался ездившего к медведю Скорнякова и оставил его на Байбиче-сае распоряжаться трудным переходом верблюдов, производившимся до того под моим присмотром, а сам поехал вперёд к другому оврагу, который уже успел осмотреть, на переправу верблюдов, прошедших Байбиче-сай; этот овраг, такой же глубокий, как Байбиче-сай, был менее труден; спуск косогором, но менее тесной тропинкой.
Наши передние верблюды перешли его в сумерки; когда за ними стал переезжать и я, - уже совершенно стемнело; тут я заметил, что троппнку местами совершенно пересекали водомоины, через которые лошади приходилось шагать так, что при неверном шаге её можно было слететь в черневшую сбоку пропасть; однако, овраг перешли легко и задние верблюды уже поздно ночью и в окончательной темноте, так как луна, бывшая в конце своего октябрьского ущерба, узким серпом всходила не ранее утренней зари.
На ночлеге я уже нашел готовые коши и разведённый огонь; он был на небольшой площадке, у сравнительно неглубокого оврага, так как к этой площадке дорога шла отлогим спуском. За оврагом поднимался скалистый кряж - продолжение хребта между Уланом и текущей рядом с ним Дёнгереме {Для этой речки я от своих спутников слышал два имени: Дёнгереме и еще Кара-кол.}, второй более южной вершиной Атбаши, которая получает свое имя у слияния обеих речек.
Упираясь в этот хребет, Улан входит в его трещину и поворачивает к юго-юго-западу, между тем как выше течёт прямее к западу; выйдя из этой трещины, Улан соединяется с Дёнгереме, текущей прямо к западу; образованная же ими Атбаши направляется сперва к западу-юго-западу, согласно с общим направлением Улана.
Рельеф площади глиняных наносов, пересекаемых Байбиче-саем и другими оврагами, в которых видно, что эти наносы образуют 500-футовую толщу, заставляет считать их озёрными осадками, впоследствии изрытыми ручьями, прежде впадавшими в озеро.
Смыты, и притом исподволь, что и образовало у последнего оврага уступ, доставивший нам удобное место для ночлега. Этот уступ есть явственный след стока озера; я видел соответствующие уступы и в драперто оно было горной грядой, через которую теперь прорывается Улан на соединение с Дёнгереме; при стоке озера через образовавшуюся трещину в этой гряде примыкающие к ней наносы были отчастугих расширениях тяньшанских долин с озёрными осадками.
Слияние двух вершин Атбаши я увидал на следующий день, 11-го, поднявшись на горный гребень, через который прорывается Улан, между тем как отряд прошёл ущельем и перешёл на левый берег Атбаши, почти у самого устья Дёнгереме, которая течёт в узкой трещине, между осыпистыми серыми скалами, увенчанными снегом, а ниже не имеющими ни признака растительности.
Вдоль Дёнгереме есть тоже кочевая тропинка, которая по виду местности показалась мне весьма неудобной; то же сказал и ехавший со мной киргиз, прибавивши, что эта тропинка всё идет осыпистыми косогорами, изрытыми снеговой водой.
Живописнее представлялась мне долина Атбаши, расширяющаяся версты на четыре тотчас у соединения её двух вершин. Она представляет ровную, почти горизонтальную площадь между двумя хребтами, из которых северный - выше, скалист и представляет множество ущелий, откуда текут в Атбаши частые ручьи; южный - ниже и спускается к площади долины отлогими волнистыми скатами, с плоскими лощинами. На площади между хребтами, ближе к южному хребту, ещё углубляется более узкая долина, шириной около 300 саж., на дне которой течет Атбаши.
К ней слева спускаются по лощинам беспрестанные ельники, справа - обширные заросли стелющегося можжевельника, обильно растущие и по оврагам правых притоков Атбаши, пересекающих с этой стороны верхнюю площадь долины, но на самой площади, на её ровных пространствах между оврагами и лощинами никакого леса нет, одни пастбища; зато лес с обеих сторон долины поднимается полосами от русла реки на горные хребты, и, разумеется, можжевельники выше елей.
Снега были видны только ничтожные полоски по самым гребням хребтов, не достигающих у этой части долины до вечного снега и не представляющих высоких пиков. На самой вершине горного гребня, отделяющего расширенную площадь в ущелье Улана от такой же площади в долине Атбаши, я заметил обнажения известняка и довольно глубокий, продольный овраг - явственный разлом антиклинальной складки известняковых пластов; кроме того, на обе стороны тянулись лощины вниз, по одной из которых я и спустился.
Сам гребень идёт наискось поперек долины и представляет седловину в том месте, где его прорывает Улан; тут он возвышается не более 700 - 800 фут. над рекой, а к северному хребту, отделяющему Атбаши от Нарына, значительно выше; я въехал футов на 1 000 или 1 200 (глазомерно) над рекой.
Спустившись, я проехал правой стороной долины, наискось приближаясь к Атбаши, причём неоднократно приходилось опять удаляться от реки, чтобы объезжать трудные места идущих к ней частых оврагов, которые чем ближе к реке, тем круче и труднее для проезда,- потому-то дорога и переходит тут на левый южный берег Атбаши, где не нужно никакого объезда трудных оврагов.
Наконец, мне удалось спуститься к реке крутым косогором, но в этом месте подъём на левый берег был обрывист и недоступен; проехавши немного вдоль русла, я увидал на взлобке правого берега, окружённом густыми зарослями можжевельника, неподвижно стоящего медведя, который издали, шагах в четырёхстах, казался совершенно белым на солнце; бывшие со мной казак и киргиз видели его еще, когда он пробирался по можжевельникам.
Посмотрел я в зрительную трубу, - медведь был белее обоих добытых в коллекцию, со слабым, желтоватым оттенком, светлобурой мордой и лапами, а всё тело, от лба до хвоста, почти совершенно белое: настоящий сыртовой медведь, из тех белых горных, о которых я слышал от киргизов, и, повидимому, старый.
Следы его трудов я только что видел в это самое утро: норы сурков, многочисленные в безлесных частях долины Атбаши, были тут разрыты, и кучки земли накиданы медведем на вырытых им сурков. Мишка посмотрел на нас и присел; мы были совершенно открыты, подходить сочли невозможным без того, чтобы не спугнуть его, стрелять же на такое расстояние, хотя со мной и был штуцер {Короткий одноствольный нарезной кавалерийский карабин.}, обещало верный промах.
Не подвигаясь к медведю ни на шаг, мы повернули вправо, в овраг, чтобы по его отверткам как-нибудь подкрасться к завидной добыче, что было возможно против ветра, слегка дувшего с юго-запада. При таком ветре марал или архар, не чуя ничего, почти наверно бы подпустил, но медведю показалось подозрительным, что мы повернули в овраг, и когда мы подкрались к взлобку, не было на нём уже никого.
Только напрасно проездили. Таким образом, мы на Атбаши в два дня сряду встретили двух медведей, и притом не искавши, почти просто по дороге попались, что показывает множество этих животных, да и привольное им там житьё.
И ельники и особенно густые заросли можжевельника, который тут стелется на 2 - 3 саж. каждый ствол, поднимая ветви до 4 фут., доставляют им превосходные берлоги; тут же и корм: в ельниках много ягод черной альпийской смородины (Ribes atropurpurea), крыжовника, рябины, а выйдя из леса, тотчас множество разных корней, и, ещё лучше, бесчисленные колонии сурков, которых только на Кегене и в кастекской щели я видал в таком множестве; поэтому я думаю, что с Атбаши медведь едва ли отлучается за кормом: лучшего места кругом нет.
На Нарынский же сырт медведи, вероятно, поднимаются из ельников нарынского же капчегая, где сурков нет. Впрочем, медведи распространены по всей Тяньшанской системе и в Кара-тау, но спорадически, по кормным местам: так, на Тургени, на Ассе, на Уч-мерке в недалеком соседстве ельников они находят и ягоды, у горных речек, и много сурков по плоскогорьям и просто на травянистых склонах, непосредственно у леса; в Семиреченском Алатау те же условия, например на Коре, где я видел медвежьи следы.
Обильны ещё медведи у Верного, где сурки редки; там, кроме яблок и урюка, им особенно привлекательны пчельники, которые привлекают их и к Лепсинской станице, в Семиреченском Ала-тау. Западнее Верного я нашел медведя уже на меридиане Ташкента, в ущельях вершин Бугуни, в Кара-тау и у самого западного конца Тянь-шаня, на Уйгуме, последнем из больших горных притоков Чирчика; в обеих местностях замечены его следы, указывающие малый рост, и кроме того, с Кара-тау получена неполная киргизской съёмки шкура, без головы и лап, тоже весьма небольшая, от затылка около 3 или 3,3 фут.
Не знаю, чем кормится там мишка: ягод нет, кроме боярышника, сурков нет; архары малочисленны, и не ему поймать, как и диких коз тут же в Кара-тау, по соседству; кабаньи поросята не редки и доступны, но строго берегутся свиньями, которых этому мелкому медведю не осилить; на убыток стадам от него киргизы не жалуются - разве кабаний ему корм, коренья, да ещё мелкие грызуны, которых много, яйца, насекомые - подобно барсуку.
На Уйгуме, напротив, медведю круглый год самая роскошная растительная пища: с июня шелковичные ягоды и урюк, потом яблоки, виноград; осенью и до следующего лета - грецкие орехи и фисташки. При этих разнообразных условиях корма и климата, от 2000 - 3000 фут. абсолютной высоты на Кара-тау и Уйгуме до 10 000 - 11 000 на Атбаши и сыртах, тяньшанский медведь несколько изменяется в цвете.
Сыртовой самый беловатый, с светлобурым подшёрстком; около Верного медведь темнее, с чисто бурым подшерстком и желтоватыми концами ости, так что общий цвет грязножёлто-буроватый. Наконец, на Кара-тау и ость и подшерсток почти одноцветны, чалые, т. е. иссера бледнорыжеваты, с несколько желтоватым оттенком (sordide isabellinus), подшёрсток светлее, чем у сыртового, ость менее бела; это степной цвет и, может быть, это и есть гималайский U. isabellinus Horsf., доходящий до Кара-тау и отличный от настоящего тяньшанского, более восточного U. leuconyx, но без полных шкур, с когтями и черепами, по одному цвету шерсти этого решить нельзя.
Ростом сыртовой и каратауский медведи одинаковы, но лесной, и семиреченский, и алматинский несколько крупнее. Годовые и восьмимесячные лесные медвежата, которых я видел живыми на цепи в Копале и Верном, с самыми ясными беловатыми ошейниками, ростом не меньше и ещё массивнее, чем убитая 10 октября на Улане медведица, уже потерявшая свой ошейник, следы которого, едва приметные, стушёванные, были видны на её горле, что показывало двухлетний возраст.
Конечно, иные медведи и в этом возрасте сохраняют еще свой ошейник, но ранее не теряют, а лесные медвежата, виденные мной, добыты слепыми и выросли в неволе, так что их возраст определен мней точно и независимо от ошейника; когти белы, как у сыртового.
Рост старых медведей у Верного, я полагаю, в 4,4 - 5 фут. длины, не более {Казаки считают до 10 - 12 четвертей длины, т. е. 6 - 7 фут., но это по свежим шкурам, которые, как я многократно видел, крайне растяжимы, и при скоблении жира и мездры вытягиваются почти до полуторного размера зверя в мясе; в 10-четвертные попал у них и мой сыртовой медведь с Баты-кичика, которого настоящая длина 4,1 фут. Слыхал я и про 14-четвертных у Верного, но это уже просто преувеличение.}, т. е. на полфута длиннее сыртовых; они пропорционально немного выше на ногах, нежели сыртовые.
После неудачной охоты на "косопятого", как его зовут иные семиреченские казаки, я ещё несколько проехал вдоль Атбаши, которая тут течёт несколькими руслами по тальковым полянам, глубиной и в малую воду около 3,4 арш.; быстрота умеренная, ширина при слиянии рукавов 6 - 8 саж.
Сеть речных рукавов наполняет во всю её ширину углубленную долину, которую можно назвать общим руслом, вернее, займищем реки; его берега, живописно заросшие спускающимися к реке ельниками и можжевельниками, круты и высоки, поднимаясь на 300 - 400 фут. над рекой, но берега протоков плоски.
Версты через 2,3 я въехал на левый берег по оврагу с спускающимся до самой реки ельником; встреченные же до него овраги с елями, весьма частые, к реке кончались почти отвесными обрывами. Тут я увидал ровную площадь, на которой вообще прекращались поднимавшиеся от реки ельники, но на горах за этой площадью опять росла ель, и тут её верхний предел показался мне выше, чем на Улане.
Гребень этих гор тянется почти ровной слабоволнистой линией, скаты отлоги; это хребет, отделяющий Атбаши от Балык-су, одного из главных между её многочисленными, но мелкими притоками. Верстах в двенадцати от слияния Улана с Дёнгереме этот хребет упирается в русло Атбаши, не оставляя места для дороги, которая тут переходит опять на правый берег.
В Атбаши этот хребет упирается не обрывами, а крутыми склонами, изрытыми лесистыми оврагами, правая сторона долины тут становится совершенно ровной и без оврагов, шириной с небольшим в версту, между тем как левая сторона, начиная с Балык-су, расширяется и пересекается множеством оврагов; тут виден на заднем плане лесистый, заросший елями хребет, с ущельями Кыны, Тас-су и другими, видны даже бесснежные перевалы через хребет, представляющиеся весьма мало углублёнными седловинами.
И этот хребет - водораздел притоков Нарына и Аксая, следовательно, двух больших речных систем, Сыр-дарьи и Кашгар-дарьи, представляет ровный, слабоволнистый, прямолинейный гребень, как и хребет между Атабаши и Балык-су; вообще у верхней Атбаши и её обоих истоков все такие же ровные горные гребни, без пиков.
Западнее р. Тас-су, от дающего ей начало хребта отделяется высокий откос, направляющийся к северо-востоку, к самой реке, у которой кончается голым, серо-беловатым, каменным мысом; напротив, на правом берегу встает такая же скала, высоким, крутым обрывом, и, удаляясь от реки, постепенно понижается, соединяясь седловиной не выше 150 - 200 фут. над площадью долины, с отлого спускающимся отрогом северного хребта.
Тут Атбаши, видимо, прорывается через трещину поперечного хребта, замыкающего её верхнюю долину и отделяющего её от нижней; причём трещина не в самом низком месте седловины этого поперечного хребта, а именно южнее; через самоё же седловину идёт дорога вниз по долине Атбаши.
Я успел выведать у ехавшего со мной джигита о перевалах к Аксаю, высмотрел их и решился по перевалу Кыны итти на Аксай; затем съехал с дороги и поехал у самых обрывов речного берега. Тут вскоре встретился отлогий спуск, ясно обозначенный на береговом обрыве, здесь почти отвесном; за спуском опять ровная площадка, всё еще футов на сто пятьдесят или двести выше реки.
Площадь долины понижалась уступом, обозначавшим сток вод некогда бывшего тут озера и размытие части озёрных осадков, как я уже накануне заметил в долине Улана, что описано выше. Дорога же отступает от реки и направляется к только что упомянутой седловине, по идущему через долину краю её верхнего уступа, но, пройдя так версты две, тоже спускается на нижний уступ.
Вдоль Атбаши я искал преимущественно спуска для переправ к ущелью Кыны, текущей в Атбаши с юга, т. е. слева, но вёрст пять не находил; между тем заметил, что отряд всё удаляется от реки и подходит к седловине поперечного хребта. Зная, что по Кыны и Тас-су есть дороги, и сказавши с утра, что иду к перевалу на Аксай, я этому удивился и послал ехавшего со мной переводчика, урядника Гордеева, повернуть отряд к реке; с ним скоро приехал Атабек с объяснением, что к реке нет тут спуска, что заворот дороги далее, за поперечным увалом.
Я, всмотревшись уже в местность, велел Гордееву всё-таки повернуть отряд к реке, а Атабеку отвечал, что если не найду удобного спуска, так пойдем по его дороге, но сперва поищу; он поехал со мной, и сажен через сто спуск нашёлся, широкая дорога, довольно отлого проложенная по косогору, т. е. широкая настолько, что по ней можно было верхом проехать мимо навьюченного верблюда, но двум верблюдам не разойтись; между тем, стал подходить отряд, и мы переправились по удобному броду.
На гальковых полянах у реки были и тут замечены кулики-серпоклювы (Falcirostra), но крайне осторожные, добыть не удалось. Переправившись, мы тут же и остановились, между устьями Кыны и Тас-су; долина тут поднималась над рекой многими уступами, и мы стали на нижнем, выше реки всего сажен на пять, собрали дров из обломков выкинутых Атбаши на берег в половодье елей и заварили чай.
Чайник был со мной на вьючной лошади, вместе с тёплым платьем и постелью; я должен признаться, что позволял себе эту изнеженность - тотчас по прибытии на место постилать постель на кошму, снимать сапоги, надевать туфли, лежа пить чай и несколько предаваться кейфу.
Всё это как-то особенно приятно на сыртах и в самых глухих ущельях Тянь-шаня; приятно тут и утром пить чай в постели: дикость и глушь Тянь-шаня придают, по крайней мере, для меня особую прелесть этой небольшой обломовщине.
Дорога вниз по Атбаши есть и левым берегом, а потому Атабек, не удержавши меня от переправы, на ночлеге стал удерживать от перевала к Аксаю: и этот описывался снежным и непроходимым,-- но я помнил уланский, и только что видел издали, что этот ниже, и ели почти до гребня хребта, да не видал и снега; а потому вновь сказал, что посмотрю.
Дело в том, что на Нарыне Атабек боялся врага своего рода, Умбет-алу, а тут страх прошел; на Улане были замечены встречные следы пары лошадей, на Атбаши-тоже; мы знали, что зимовки Умбет-алы на Атбаши, но ниже за поперечным увалом; по конным следам заключили, что его джигиты выглядывают наш отряд, но оба ночлега на Улане прошли без нападения, даже без попытки угнать наш табун; значит, враг сам боялся нашего отряда.
Поскорее напасть на его аулы, пока не спрятал пожитков, не угнал стад, не собрался сам для нападения, - таков был расчет Атабека, отрядных богинцев, да и большинства казаков; последние, впрочем, всё еще чего-то опасались {Пожалуй, того, что случилось с отрядом полковника Хоментовского при чебар [разорении] сарыбагишских аулов близ Токмака, в 1856 г., когда, убежавши без сопротивления, сарыбагиши напали на отряд при обратном пути (Записки Географического общества по общей географии, 1867, стр. 184).}, хотелось пограбить, да боязно.
А когда и на устье Кыны, уже совсем вблизи вражьих аулов, ночь прошла спокойно, то стали думать, что враг или совсем боится и не думает напасть или, пожалуй, его аулов и нет на Атбаши; они неведомо где, - а путь свободен, вниз по Атбаши и через Нарын, к западному концу Иссык-куля, или вверх по малому Нарыну: итти бы поскорее домой, пока еще снега нет.
Тем неприступнее стал рассказываться путь к Аксаю утром 12-го, но я велел готовить дрова для похода на это безлесное плоскогорье, по которому я думал дойти до перевала Теректы к Кашгару, чтобы осмотреть и этот перевал.
Наготовивши дров в ельнике, саженях в трёхстах от ночлега, у входа в ущелье Тас-су, мы тронулись часов уже в десять утра. От ночлега шли две дороги: одна вперед вниз по Атбаши и потом вверх по р. Тас-су {Тас-су значит каменистая речка; Тас-асу -- каменистый перевал.} к перевалу Тас-асу; другая - несколько назад, к вершинам Балык-су; Атабек указал последнюю как дорогу на Кыны, но я ему уже не верил и пошел на Тас-су, думая с него свернуть на его приток Кыны, - и ошибся; эта речка впадает в Тас-су непроходимым оврагом, а дорога к ней идёт увалами, сворачивая с дороги на Балык-су.
Впрочем, и дорога по Тас-су, весьма живописная, казалась и весьма удобной; долина тут довольно широка, с полверсты; речка течёт преимущественно под крутым обрывом её правого или восточного края, поднимающегося над ней без уступов слишком на 1000 фут., с редко рассеянным по голому камню можжевельником.
Дорога поднимается вдоль левого берега, по отлогим увалам, которых северные склоны заросли елями, а южные представляют отличные пастбища; ельник поднимается и по известковым утесам левого края долины, из оврагов которого сбегают небольшие светлые ручьи.
Ели во всей долине росли хорошо, только на последнем спускающемся в неё отроге от хребта её западного края сделались ниже и корявее, не выше 40 - 50 фут., и близ плоского гребня этого отрога достигли своего предела, ввиду перевала, казавшегося всего футов на сто пятьдесят или двести выше.
Отлогий спуск с уступом привёл нас к слиянию двух вершин Тас-су. Более значительная левая текла с запада из-под крутых и высоких утёсов, поднимающихся значительно выше самого перевала; меньшая, правая, текла прямо с юга сплошным порогом, по короткому каменистому оврагу, по которому и шёл подъём; снег лежал полосами в ельниках и кое-где по рытвинам, но сам перевал был бесснежен.
У слияния вершин Тас-су рос огромный тальник; выше, к вершине перевала, можжевельник, как и по всему ущелью западной вершины речки; мы остановились на площадке у поворота Тас-су. День был ясный и теплый; долина, по которой мы прошли, еще богата мелкой птицей; особенно меня удивили 12 октября и на такой высоте около 10 000 фут., верстах в пяти от вершины перевала, несколько летавших Hirundo riparia, очевидно, запоздалых.
Кроме ели, можжевельника и тальника, в долине Тас-су растут у речки жимолость, крыжовник и разные другие кусты, вверх слишком до половины ущелья, т. е. до высоты немного ниже 10 000 фут. Высоту перевала я счёл, по соображению растительности и местных условий, поднимающих её верхние пределы, около 10 200 фут.; барометрическое измерение Буняковского дало в следующем году 10 700 фут., а для смежного перевала Кыны, всего вёрст пять восточнее, - 10 450 фут. Кыны есть самый низкий и удобный перевал из долины Атбаши на Аксайское плоскогорье.
Устье Тас-су в Атбаши нельзя считать ниже 9 000 фут., а скорее в 9 500 фут.; от верхних елей по Улану (10 000 фут., если не выше) до устья Тас-су всего 25 вёрст, и при умеренном течении Атбаши нельзя положить её падение на этом пространстве свыше 500, много 600 фут., т. е. около 20 фут. на версту.
Предел елей у перевала Богушты, с Атбаши к Ак-саю и вёрст тридцать западнее Тас-асу Буняковский нашёл на 10 760 фут.; у Тас-асу я его полагаю в 10 500 фут., а можжевельник до 10 600 фут. под перевалом и выше, почти до 11 000 фут., у западной вершины Тас-су, где и горы поднимаются уже футов на тысячу (глазомерно) выше седловины хребта у Тас-су, ещё понижающейся к Кыны.
Соседство широкой, высокой, хорошо нагреваемой и защищенной от холодных ветров долины Атбаши поднимает вверх пределы растительности на хребтах этой долины, сравнительно с узким и холодным ущельем Улана; притом Атбаши течёт преимущественно у южного края своей долины, а северный направляет к реке длинные отроги, постепенно спускающиеся к югу и обильные солнцепёками, между тем как обращенный к северу склон на её левом берегу короче и круче.
На Тас-асу сама вершина перевала, ведущего на открытое Аксайское плоскогорье, ниже лесного предела у Богушты, потому ниже на Тас-асу предел леса по топографической, а не климатической причине: нигде на Тянь-Шане нет леса в непосредственной близости равнины,-- он прячется в горных лощинах.
Утром 13-го мы стали подниматься на перевал с берега Тас-су; с места, где под талами сочился из-под гальки родник, поднялся Scoloрах hyemalis, горный дупель; Терентьев выстрелил,-- и птица отвесно поднялась вверх и скрылась из глаз. Я еще сидел на месте, пока выступал отряд.
С полчаса спустя проехал и я этим местом; бывший при мне Гордеев заметил дупеля, старавшегося притаиться между корнями ивы, и поймал руками; он оказался с нетронутыми крыльями, но с ногой, только что перебитой выстрелом в мясистой части, что и мешало ему подняться с земли.
Дорога вверх, к перевалу, была не особенно крута; она идёт по косогору сперва левого берега ручья, и тут камениста, завалена крупными глыбами известняка; затем переходит на правый и небольшой косой рытвиной поднимается на взлобок; весь подъём от слияния вершин Тас-асу с версту, из которой трудны от тесноты тропинки и камней первые 200 саж.; вверх - легче.
На вершине перевала открывается волнистая площадь, с округлёнными холмами и широкими, довольно глубокими лощинами; за ней встаёт колоссальный хребет с крутыми снежными вершинами и двумя главными пиками по средине.
К западу этот хребет понижается и представляет уже ровный прямолинейный гребень; из промежутка главных пиков зааксайского хребта чернела трещина, видны были отвесные утесы её заднего края, поднимающегося над передним; в этой трещине течет в Аксай реч. Кок-кия, дающая своё имя хребту.
Подъём на него до подножья его скалистых пиков представляет волнистую, отлогую покатость, но сами пики так круты, что на половине их поверхности не может удержаться снег, из которого выступают голые тёмные утесы, и так до самих вершин.
Пики соединены крутым скалистым гребнем, на котором синеватым отливом отделяются вечные снега между свежими, опускающимися и на верхнюю половину отлогой покатости,-- но её нижняя половина была бесснежная, как и всё плоскогорье.
Глазомерно я полагаю высшие пики на 7 000 - 8 000 фут. выше Аксая, сплошной октябрьский снег около 1 500 фут. над рекой; вечный снег ещё около 2 000 фут. выше. Снежная линия, видимо, понижалась к востоку, параллельно линии основания скалистого гребня хребта на отлогой покатости; к юго-западу плоский гребень хребта был совершенно бесснежен, и едва заметная в нём седловина означала перевал Теректы, к Кашкару, а к юго-востоку Кок-кия был заслонён горной массой Бос-адыр, скалистой и высокой, слишком до половины покрытой свежим снегом.
Пиков тут было много, но они мало возвышались над широкой плоской вершиной Бос-адыра, которого все скаты скалисты и круты, с бесчисленными рытвинами. Аксай течёт у подошвы хр. Кок-кия и затем входит в тесное ущелье между этим хребтом и Бос-адыром; его уровень при входе в ущелье я полагал, по крайне низкому альпийскому полуфутовому тальнику, около 10 000 фут. и не ниже 9 800 фут.; по барометрическому измерению капитана Каульбарса - около 10 000 фут., что вполне согласно с измеренной высотой Тас-асу и дает около 11 500 фут. абсолютной высоты для октябрьского снега под пиками Кок-кия, 13 500 фут. или даже 14 000 фут. для вечного, и 17 000 - 18 000 фут. для высших пиков Кок-кия; прочие в 15 000 - 16 000 фут. и Бос-адыр около 15 000 фут. или даже несколько ниже.
Перевал Теректы, по барометрическому измерению Рейнталя, проехавшего через него в Кашгар, находится на высоте 12 600 фут.: я этот перевал видел бесснежным 13 октября и бесснежным же нашел его и Рейнталь 16 октября следующего 1867 г., между тем как под пиками Кок-кия, я полагаю, октябрьский снег, судя по его высоте над рекой, футов на тысячу ниже этого бесснежного перевала.
Спуск с перевала почти неприметен, да, собственно говоря, и существует только к долине Аксая, несколько углублённой в Аксайском плоскогорье, плоские вершины холмов которого, занимающие более пространства, нежели углублённые между ними лощины, находятся почти в одном уровне с перевалом Кыны, и даже с Тас-асу, так как общая покатость плоскогорня к востоку и при устье Теректы уже само русло реки не ниже перевала Тас-асу.
Вход в ущелье Теректы недалеко от устья, по определению Рейнталя, на высоте 11 200 фут. Таким образом, на всём пространстве между перевалом Тас-асу и вершиной Балык-су нет никакого горного хребта на линии водораздела Атбаши и Аксая; есть только уступ, окраина более высокого Аксайского плоскогорья, спускающаяся к менее высокой долине Атбаши; на этом пространстве есть ещё перевал немного восточнее Кыны, и тоже удобный по сливающейся с Кыны реч. Куян-су.
Дороги со всех трёх перевалов к Аксаю сходятся у впадающей в него речки южной Кыны, к которой тропинка с Тас-асу идёт сперва ровной площадью, потом постепенно спускается по лощине, сначала весьма неглубокой; верстах в пяти от перевала дорога выходит на южную Кыны, которая тут представляла сухое русло, с замёрзшими небольшими омутами; ещё немного далее справа подходит к речке широкая долина, между невысокими отлогими холмами; у подошвы южного края долины множество сазов, отчасти еще топких и не промёрзших; из них выходит весьма небольшой ручеёк, впадающий в южную Кыны.
Местность тут такая степная, что можно забыть о Тянь-шане; снеговые хребты Кок-кия и Бос-адыр закрыты ближайшими увалами; общая физиономия тощей растительности такая же, как и в оренбургской киргизской степи, в такой же холмистой местности с частыми лощинами у вершин Илека: кипцы, полынки, небольшие солонцеватые площадки с редкими солянками; да и температура и подернутые тонким льдом лужи, и даже в этот день серенькое небо илецкого октября; облака были, однако, так высоки, что не закрывали вершин Кок-кия.
Эта тощая растительность доставляет, однако, превосходные корма всякому киргизскому скоту: кипцы - лошадям, полынки и солянки - баранам и верблюдам; только для последних несколько маловат рост трав на этих высоких пастбищах.
На только что описанной долине я увидал издали дымок и проехал к нему; там заварили чай Атабек со своими джигитами, нашедшими кизяка. Они уже успели поохотиться, и мергень (охотник), уже убивши медведя, пулей же и на всём скаку ссадил тут из фитильного ружья лисицу - выстрел изумительно ловкий, при малости цели и неудобстве стрельбы на скаку из фитильного ружья; и такие стрелки не редкость между горными каракиргизами, вообще любящими охоту.
Сам Атабек был страстный охотник и хороший стрелок по крупному зверю, но такие выстрелы ему не удавались. Не успел я вернуться на дорогу, как узнал о весьма капитальном приобретении для своей коллекции: был убит качкар, Ovis polii, и всё Катанаевым; я тотчас поехал к месту, где он лежал, по ровной степи, изрезанной частыми лощинами, как и всё Аксайское плоскогорье; только тут края лощин были круты, и на одном из них, у верхнего начала спуска, лежал качкар, убитый двумя пулями.
Катанаев, увидавши его издали отставшим несколько от небольшого стада, подкрался к нему из лощины, выстрелил, высмотрел направление его бега, по лощинам же преследовал его верхом, не показываясь, и опять подкрался из-за угла, когда зверь остановился; второй выстрел, шагах в ста, был смертелен.
В этом преследовании, не показываясь и непременно против ветра, чтобы спугнутый выстрелом зверь опять вскоре остановился, и заключается главная трудность, да и главное искусство, не дававшееся мне в охоте за архарами; нужен очень зоркий глаз и большая сноровка ориентироваться в незнакомой местности по-охотничьи, т. е. так, чтобы непременно вновь встретить преследуемого п скрывшегося зверя.
Для этого-то Катанаев и охотился всегда вдвоём с казаком Тутовым, весьма и весьма неважным стрелком и, несмотря на то, ловким охотником: он отлично умел оставаться в виду преследуемого зверя, в прилично далеком расстоянии, чтобы тот уходил без излишней поспешности, и объезжать его так, чтобы он направлялся к скрытно едущему Катанаеву.
У одинокого же охотника, как бы ловок он ни был, но без ловкого же товарища, направляющего зверя, раненые, а не убитые сразу маралы и архары большей частью уходят и, хотя нередко удается их добить и одинокому, при искусном преследовании, но всегда с большой потерей времени, потому казаки предпочитают охотиться вдвоем.
Стреляют зверя из длиннейших и тяжелых винтовок с сошками, на которые упирается конец ствола для прицела; чтобы выстрелить, казак должен непременно слезть с лошади, а между тем они стреляют так и бегущего зверя, для чего нужна большая сноровка за ним гнаться и остановиться впереди его.
Так же стреляют и киргизы, и из длинных же винтовок, но у только что упомянутого мергеня, стрелявшего с лошади, винтовка была короткая. Убитый Катанаевым качкар был молодой самец, которого серпообразные рога едва начинали завиваться в спираль; однако, длина их по сгибу была уже двухфутовая, длина зверя почти 6 фут. (собственно 5 фут. 11 дм.), вышина 3,1 фут. - рост старого крупного О. karelini; я его смерил еще теплого, пославши за порожним верблюдом, на которого его навьючили, тут же выпотрошивши; по тому, как пошёл верблюд, я заключил, что и выпотрошенный качкар весил 8--9 пуд., а с потрохом -- 10 или 11, если не больше, до 12.
При снятии шкуры оказался череп с несовершенно сросшимися швами костей, что, вместе с рогами, безошибочно показывает двухлетний возраст, не более. Цвет был указанный мне Семёновым, на хребте темнобурый, без малейшей красноватости, на боках - светлее, серо-буроватый, постепенно светлеющий к белому брюху; белый же зад резко обведён черноватой полосой.
Этот цвет и пребывание преимущественно не на скалистых горах, а на высочайших степных плоскогорьях, кроме огромных рогов и многих других признаков, существенно отличают Ovis polii от всех других среднеазиатских архаров, которых в одном Туркестанском крае с О. polii пять-четыре тяньшанских, и один на Кара-тау {О. polii, О. karelini, О. heinsii в Центральном Тянь-шане, Musimon vignei на вершинах Зеравшана; Ovis nigpimontana на Кара-тау; все подробно и сравнительно описаны (кроме М. vignei) в моем труде "Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных", 1873.}. Мясо молодого О. polii оказалось весьма вкусным, что-то среднее между хорошей бараниной и олениной.
С места, где был убит качкар, я выехал на дорогу к речке уже неподалёку, верстах в восьми, от устья в Аксай и около 17 вёрст перевала; тут долина южного Кыны шириной около полверсты и углублена в плоскогорье футов на четыреста или пятьсот; края её круты, с обрывами голой глины.
Самая долина - луговая, речка мелка, с омутами, но уже сплошное течение; на перекатах глубина воды до полуаршниа, а омуты и до двух; течение и на перекатах, по тальковому дну, не особенно быстро, в русле довольно ключей, и лёд образовал только закраины по омутам; перекаты еще почти не представляли признаков замерзания.
Южная Кыны течёт из ключей, значительно ниже вершины перевала того же имени, и всё её падение на двадцативёрстном пространстве, вероятно, не свыше 100, много 150 фут.; течёт в рытвине с галькой на дне, но это почвенная галька, обмытая от глины, а не нанесённая рекой.
Мы остановились перед выходом этой речки в долину Аксая; тут правый западный край долины кончается крутым мысом, выступающим к востоку, левый - таким же мысом, но выступающим к западу. Лагерь был защищен от всех почти ветров, под высоким крутым обрывом, что весьма пригодилось при метелях следующих дней.
Я проехал на Аксай, текущий здесь довольно широкой долиной, версты в три шириной, многими протоками; течение для горной реки не быстрое, тише Атбаши; дно из мелкой гальки. Многие рукава достигали 5 - 8-сажённой ширины, главный и до 10, а вся сеть их занимала ширину в полверсты; тут Аксай течёт к северо-востоку, но вёрст 8 - 9 ниже поворачивает к востоку-юго-востоку резким углом и входит в ущелье между горами Кок-кия и Бос-адыр.
Я переехал все рукава Аксая; самый южный обмывал отвесный, но не высокий обрыв, из светлосерого, мелкокристаллического известняка; утёс сажени в две вышины, отлогий к западу и отвесный к востоку Чатыр-тас, поднимался из реки у этого обрыва, как раз против устья Кыны.
Тут же выходил к реке и овраг из гор Кок-кия, узкая трещина в известняке; я было въехал в него, но снег, уже начавший падать, когда я подъезжал к Аксаю, пошёл гуще, и я вернулся в лагерь, ограничившись на этот день прибрежными обнажениями.
О Чатыр-тасе киргизы рассказывают, что летом, в большую воду, он весь закрывается разливом Аксая, что мне кажется сильным преувеличением: тогда бы Аксай наполнял всю свою двухвёрстную долину; впрочем, после исключительно снежной зимы и при жарком лете нельзя вполне отрицать и такого сильного разлива. Аксай собирает снежную воду с степного пространства своего левого берега, с отлогих склонов Кок-кия и Теректинского хребта, следовательно, с пространства вёрст в девяносто длины и шестьдесят-восемьдесят ширины, т. е., по крайней мере, с 5 400 кв. вёрст, при течении не особенно быстром, так что вода не так ровно сбегает по мере накопления, как в настоящих горных потоках, чем верхний Аксай более приближается по характеру к степным рекам.
Но большие-то снега редки на плоскогорье, поднимающемся выше зимних снеговых туч,- потому в обыкновенную большую воду сливаются в сплошную реку все протоки Аксая, - и тогда он всё-таки представляется большой рекой, шириной с полверсты, и брода у Чатыр-таса уже нет.
Глубина воды в протоках, которую осенью я нашел около 2 фут., и не более 3 фут. у самого Чатыр-таса, возрастает до 5 - 8 фут., но и тогда выше устья Теректы в Аксай брод довольно удобен, а в октябре 1868 г. Рейнталь перешёл Аксай выше устья Теректы, по сухому руслу. Вернувшись с Аксая, я засветло срисовал убитого в этот день качкара.
На следующий день, 14-го, продолжалась съёмка, но весьма отрывочно; часто мешала погода, и вершины Кок-кия задернулись облаками. С утра было пасмурно, шёл мелкий сухой снег; среди дня то светило солнце, то набегали снеговые тучки; киргизы говорили, что Аксайское плоскогорье известно метелями; и действительно, это одно из самых открытых на Тянь-шане, если даже не самое открытое.
Оно не заслонено никаким хребтом к северо-востоку, между верховьями Та-су и Балык-су, где, как мы видели, есть только простой уступ к долине Атбаши не заслонено и к юго-западу, где между перевалами Теректы и Тура-гарт (последний у Чатыр-куля) тоже простой уступ к Кашгарской котловине.
Около полудня я поехал на горы Кок-кия и осмотрел его частые овраги до глубокого ущелья того же имени; везде обнажался один известняк, почти без окаменелостей; я нашел только в осыпи два неопределенные обломка каких-то кораллов.
Все овраги были параллельны, узки, глубоко врезаны между каменными стенами, но с боков к ним спускались довольно плоские лощины; крутые овраги были только в направлении юго-запада--северо-востока, параллельно главной трещине Кок-кия; часто пересекающиеся и разветвляющиеся лощины других направлений, преимущественно с северо-западного, юго-восточного, все плоски; крутые овраги поперёк пересекают одинаково и эти лощины и разделяющие их увалы, чем и показывают свой характер трещин в поднявшемся известняке, - как трещина реч. Кашкар-ата в Кара-тау, тоже глубоко пересекающая поперёк и увалы и пологие лощины плоской известняковой возвышенности.
Общий пологий склон хребта, пересекаемый этими крутыми оврагами не поперек, а вдоль, под острым углом к Аксаю, поднимается к главной трещине с реч. Кок-кия; за ней уже высится увенчанный пиками голый скалистый гребень, речка стремительно сбегала рядом порогов, но тогда уже несла шугу, т. е. рассеянные в воде ледяные кристаллики, которым течение не даёт смерзаться.
Солнце не проникает в эту щель, углублённую футов на тысячу в том месте, где я её видел, верстах в восьми от устья по течению, и в пяти или шести прямо от Чатыр-таса; отвесные каменные стены ущелья представляют разнообразнейшие выступы скал, нередки и отдельные от стены громадные каменные столбы.
Местами трещина расширяется, и на дне её являются небольшие травянистые площадки - пастбища тэков (Capra sibirica). Речка Кок-кия вытекает верстах в тридцати пяти от своего устья из высокого горного озерка, которое, судя по падению речки, нужно полагать в 12 500 фут. или скорее в 11 000 фут. над уровнем океана.
Однако, по словам киргизов, это озеро летом освобождается от льда, следовательно, еще значительно ниже вечного снега, что подтверждает мой представленный выше расчёт не менее 14 000 фут. для вечного снега у озера и несколько ниже к устью реч.
Кок-кия, но так как пики обращают к озеру свой горный склон, то вечный снег тут может подниматься и выше. Вышедши из озера, река тотчас входит в трещину между двумя высочайшими пиками хребта, и по этой трещине течёт до самого Аксая.
От этих высочайших вершин идут два скалистых гребня с высокими пиками, сходящиеся под тупым углом, в 140°, у вершины которого находится озеро, исток р. Кок-кия. Один гребень идёт к северо-востоку, вдоль речной трещины, сначала параллельно ей, а ближе к Аксаю несколько удаляясь от речки; другой - почти прямо к западу, с легким уклоном к северо-западу, параллельно ущелью Аксая и параллельно же трещине левого притока реч. Кок-кия.
Этот параллелизм линий подъёма с трещинами указывает на одновременность подъёма известнякового пласта в двух различных направлениях, как я это заметил относительно сходящихся под прямым углом линий подъёма Кара-тау и самых западных хребтов Тянь-шаня, у Чирчика.
[Следует геологическое описание района по пути от перевала Улан до гор Кок-кия. - Ред.] На следующий день, 15 октября, утро было пасмурное, но в полдень погода прояснилась, и я со склонов Кок-кия срисовал босадырские высоты, над которыми небо было ясно.
Снег, выпавший накануне и в это утро, покрывал всю долину Аксая, протоки которого между побелевшими островами казались тёмносиними, почти чёрными. Чтобы высмотреть и аксайское ущелье, я стал рисовать на высоте северного края ущелья Кок-кия; тут уже лежали широкие полосы нерастаявшего октябрьского снега, а немного выше эти полосы уже соединялись, оставляя между собой только проталины, но вчерашний и утренний снег не покрывал даже верхушек травы в этих проталинах и на высоте, которую полагаю, по своему подъёму с Аксая, в 11 500 фут.; этот снег в два солнечных часа успел уже сойти со скатов, обращенных на полдень.
На таком скате я и присел рисовать; видны был вход Аксая в ущелья, Бос-адыр и выступающий из-за него, но очень далеко, ещё какой-то снеговой хребет, замыкающий ущелье. Набросавши контур, я наметил красками, акварелью {Со мной были рекомендованные Аткинсоном "moist water colours Winsor'a и Newton" - краски, которых не нужно натирать,-- действительно, самые удобные для быстрых эскизов в путешествии.}, бесснежные скалы и травяные полосы; последние поднимались слишком до половины высоты Бос-адыра, но это нанесение красок было нелегко: краска мёрзла на кисти, нужно было её оттаивать дыханием -- да и то ложилась на бумагу цветными льдинками, которые, однако, тотчас сохли; вода, припасённая в склянке из Аксая, была у меня в грудном кармане.
Быстрое высыхание мерзлой краски на бумаге объяснило мне быстрое же исчезание снега на солнце у Аксая, при чувствительных холодах, и сухость этих солнцепёков почти немедленно, после того как сойдет снег. П
оследний не столько тает, сколько испаряется при крайней сухости воздуха на этих высотах; для накопления воды нужно, чтобы быстрота таяния превышала быстроту испарения. Бос-адыр то являлся, то заволакивался перистыми облаками, и я успел только буквально наметить бесснежные места на своём рисунке, как его заволокли тучи; последние, густые и тяжёлые, с 13-го собирались над Атбаши и оттуда, несколько разрежаясь, поднимались и набегали на Аксайское плоскогорье; наконец, перед закатом солнца заволокли Бос-адыр.
Над головой был еще синий просвет неба, но отовсюду шли облака; они спускались с вершин Бос-адыра, поднимались с плоскогорья, выползали, клубясь, из ущелий Аксая и Кок-кия; мы поехали и очутились весьма скоро в непроницаемом тумане; подул резкий ветер, закрутилась метель, но полосами; спускаясь к Аксаю, я несколько раз выезжал из облаков и видел над собой ясное небо, чем и пользовался для отыскания дороги.
Но на Аксае всё небо заволоклось, и мы попали в сплошную метель, только заблудиться было уже негде, хотя и стемнело. Переехавши реку, мы уперлись в довольно крутой край её долины и держались его до лощины южного Кыны, в которую въехали и скоро увидали лагерный огонь.
Там было относительно затишье.
И теперь, и утром, и накануне я заметил, что снеговые облака уже осенью спускаются до земли; само облако состоит из мелких носящихся снежинок, которые едва успевают соединяться в самые мелкие хлопья, даже отдельных снеговых звездочек мало; всего более в этом снеге высот простых игольчатых кристалликов.
То же самое было замечено и 4-го на сырту между Барскаунским перевалом и хребтом Болгар. В ночь метель всё усиливалась, но весь отряд был в кошах, с которых были поставлены одни крышки, а из нижних решёток и их кошмы, подпертых ещё вьюками, сделана загородь у огня, так что и часовые могли обогреться в защите от ветра; решившись непременно переждать ненастье, чтобы сделать полную съёмку Аксайского плоскогорья, я еще 14-го озаботился послать на Тас-су за дровами для усиления нашего запаса; 15-го дрова были привезены.
Метель продолжалась и 16-го утром, но на этот день мне было и дома, т. е. и лагере, много занимательного дела: пока я рисовал Бос-адыр, мои охотники сделали драгоценные приобретения для коллекции, и время метели 16-го пошло на рисование великолепного старого качкара и на отбирание и распределение по видам для коллекции множества превосходных экземпляров аксайских рыб - первых, когда-нибудь добытых в речной системе Тарима, к которой принадлежит Аксай.
Качкар, судя по рогам, на которых виден годовой прирост, был, по крайней мере, десятилетний, а вернее, что ещё старше: самые ранние борозды годового прироста у концов рогов были стерты и 10 явственных; сами концы рогов обломаны, по сравнению с этими концами у молодого, почти на полфута - и, несмотря на то, длина более обломанного рога по сгибу 4 фут. 7 дм., а менее обломанного 4 фут. 9 дм.; длина самого зверя без хвоста 6,1 1/2 фут., вышина в плечах 3 фут. 10 дм.; кругом всей шеи волнистая грива из грубых волос, длиной в 5 - 6 дм.; мягкого подшёрстка нет, хотя волос зимний; это один из признаков, отличающих и О. polii и О. karelini от сибирского архара О. argali Pall.
Качкар, добытый 15 октября, по своим рогам (единственной доселе известной части) оказался несомненным О. polii Blyth. и вполне подтвердил отнесение к этому виду прежде добытого молодого, с которым старый представлял совершенно одинаковое цветорасположение, только был несколько светлее и рыжеватее, с сильной проседью на боках; грива белая, только вдоль шейного хребта тёмнобурая.
С этой волнующейся гривой, громадными спиральными рогами, всегда приподнятой головой, плотным телом на крепких, но сухих и стройных ногах старый самец качкара есть не только самый крупный, но и самый красивый из всех горных баранов; это великолепный зверь.
Добыли его казаки Катанаев и Чадов, охотясь, вместе; он пасся один на холмистой степи у Бос-адыра, между реч. Кыны и Межерюм {У Каульбарса эта река названа иначе, но сходно, именно - Мюдюрун.}; вдали, впрочем, видно было стадо, которое казаки не преследовали, а лощинами против ветра подкрались к старому самцу, издали поразившему их своими рогами.
Первая пуля повредила ему мошонку и заднюю ногу, бежать было трудно и больно, и раненый зверь должен был часто останавливаться, что и дало возможность его добить. Еще пуля в кишки не остановила его; затем две пули попали в рога и от каждой он падал, как мёртвый; удар пули в рог оглушает его, по видимому, производя сотрясение мозга,-- но он вставал и бежал далее.
Замечательна при этом крепость и упругость роговой ткани; одна пуля сплющилась на роге и отскочила, оставивши широкое свинцовое пятно, свидетельство силы удара; другая, тоже несколько сплющенная, весьма неглубоко вдавилась, но при дальнейшей перевозке черепа с рогами вывалилась, и от сделанного ею вдавлення не осталось и следа; сжатая пулей роговая ткань выправилась.
Не убила зверя и пятая пуля, пробившая легкие: всё бежал; положила его, наконец, шестая пуля, в сердце. Таким образом, качкар бежит и с смертельными поражениями внутренностей, и только пуля в сердце (или мозг) может его остановить; по расчету казаков, они гоняли свою добычу более десяти вёрст, из них последние три с двумя смертельными ранами.
Этой крепости на рану соответствует и громадная сила: рог, выпячивающий своей упругостью застрявшую пулю, обламывается, когда самцы бодают друг друга при драках из-за самок; и то и другое я заметил на этом самом экземпляре.
Оглушительны только боковые удары в рог, каковы были на этот раз удары обеих пуль; удары же в лобовую сторону рогов переносятся так же, как и нашими домашними баранами; потому при ударе спереди сотрясение головы тотчас передается всему телу.
Со всем тем я именно этим дракам и ударам друг друга в лоб и приписываю гибель тех качкаров и архаров, которых черепа во множестве валяются на Нарыне, на Улане, на Тас-су, хотя местные жители приписывают эти черепа архарам, заеденным волками.
Но если бы так, то находились бы чаще черепа самок и молодых самцов, которых я что-то почти не помню: если нашёл, так разве у Нарына, под крутыми сланцевыми стенами у устьев Курмекты.
Самки и молодые доступнее волкам, нежели старые самцы, а между тем находятся почти что только черепа последних, начиная с четырехлетних, т. е. с того возраста, когда самцы начинают драться из-за самок; притом более черепов среднего возраста, нежели старых, хотя и последние не редки.
Таких рогов, как у добытого мной старого самца, я не встречал на валяющихся черепах, и из множества последних, виденных мной в эту поездку, подобрал только один свежий, с кровянистыми костями и обгрызенной мордой; все прочие были побелевшие, самые свежие из них еще с остатками кожи и волоса у корня рогов, прошлогодние; прошлогодние же черепа другого вида архаров (Ovis nigrimontana nob.) я нашел в мае в Кара-тау и те посвежее прошлогодних же, но найденных в октябре.
Вообще, по степеням сохранности черепов, я мог заключить, что они принадлежали архарам, погибавшим периодически по нескольку и не ежемесячно, а в определённое время года, именно осенью, а ягнята родятся ранней весной на Кара-тау уже в марте, судя по росту виденного мной при матке в мае.
Это уже прямо носит периодическую гибель архарьих взрослых самцов ко времени их течки, осенью, в октябре. Находятся эти черепа не разбросанными по горным долинам и плоскогорьям, а исключительно под крутейшими обрывами, всего более, но одних архарьих (О. karelini) у устья Курмекты в Нарын; архарьи и качкарьи - под обрывом правого берега северного Улана; одни качкарьи - под обрывом правого берега Тас-су; в последних двух местностях и черепа тэков (Capra sibirica); везде вершины скал, под которыми лежат черепа, плоски и травянисты, - это их пастбища.
При драках по соседству таких обрывов сильнейший самец сталкивает в пропасть более слабого, а иногда сразмаху и сам летит за ним, но редко; тогда два черепа лежат ряд им, не далее 10 шагов друг от друга, но более лежащих поодиночке.
Не нахожу совершенно невозможным и то, что волки, может быть, пользуются драками архарьих и тэковых самцов, когда они, занятые своим боем, менее чутки к приближению хищника, который их гонит к пропасти и заставляет туда броситься с переполоху, между тем как более чуткие самки спасаются.
Вместе с тем, я убежден, что и независимо от волков драки самцов во время течки достаточно объясняют присутствие их черепов под обрывами: волки же поедают трупы погибших вместе с грифами и бородачами, из которых последние, по наблюдению Карелина, тоже гоняют архаров и тэков.
Переполохи вообще свойственны баранам, но свойственно им при испуге и целыми стадами бросаться с обрыва, без разбора возраста и пола: отчего бы волкам не гонять ночью и самок с ягнятами и молодых самцов?
А под обрывами черепа почти одних старых самцов; тут волчьи жертвы, следовательно, составляют только примесь к жертвам собственных драк. Эти драки крайне полезны для существования видов горных баранов: они-то и составляют простое, но действительное средство естественного подбора самых сильных и ловких производителей, передающих потомству свои могучие мышцы, пружинные ноги и огромные рога -- вообще свойства, делающие возможным скрываться от врага, прыгая по утесам, и пользоваться самыми неприступными горными пастбищами.
Одного самца достаточно на многих самок, как у большинства жвачных, следовательно, всегда есть лишние. Оттого и драки из-за самок, которых оплодотворяет победитель, т. е. сильнейший.
Огромные рога архаров и тэков полезны им и для этих драк, и для бега по горам, именно для прыганья вниз. Говорят, что эти звери, прыгая сверху на какой-нибудь уступ скалы, ударяются об него рогами, а потом уже ставят передние ноги, чтобы их не сломать; это и я слыхал от казаков, да плохо верю; но, при тяжелой массе этих рогов, различные наклонения головы при прыжке перемещают центр тяжести прыгающего зверя, что нужнее при грузном теле самца, нежели для более легкой самки.
Добытый мной старый качкар весил не менее 18 пудов; выпотрошенного едва тащил сильнейший из наших верблюдов, как марала на Санташе.
Чем выше место, чем реже воздух, тем менее снесёт верблюд; следовательно, выпотрошенного качкара можно считать около 14 пудов, марала, выпотрошенного же,-- около 18; в обоих случаях два казака с обеих сторон поддерживали тяжесть, иначе бы верблюд не донёс. Череп качкара с рогами из этих 18 пуд. весит около 3 пуд.; его тяжело поднять с земли; одни рога можно положить в 2,1 пуда, при 15-пудовой массе безрогого тела.
Самка гораздо легче, почти в половину, у всех горных баранов и у тэков. Самка О. polii, конечно, никем не добыта, но не составит исключения. Мясо старого качкара было нехорошо, с неприятным мускусовым запахом; огромные testes, наполненные семенем, указывали скоро наступающую течку; пожалел я было, что не имел с собой микроскопа для определения зрелости семенных живчиков, но это наблюдение и при микроскопе было бы невозможно на морозе.
Ovis polii есть баран высочайших плоскогорий, где и пасётся, но всё-таки по соседству скалистых хребтов, доставляющих ему убежище. На Аксайском плоскогорье ему такие убежища доставляет преимущественно Бос-адырский хребет, также утесы по левым притокам Атбаши, но скалы ущелья и пиков Кок-кия качкар предоставляет тэкам; там длят него слишком скалисто.
Не избегают плоскогорий и другие архары, например, многочисленные О. karelini на Нарынском сырту, но они живут и в таких частях: Тянь-шаня, где плоскогорий нет, например, на Семиреченском Ала-тау; непременным же условием местопребывания -- плоскогорья, и притом высокие, не иначе, как выше предела лесов, являются для одного качкара, который и есть настоящий сыртовый, или памирский, баран {Это заметил на моём чтении в Географическом обществе П. П. Семёнов, наблюдавший качкаров на сырту у Хан-тенгри.
Вот его стенографированные слова: "Замечательно, что нет места, где бы мог жить этот баран, кроме как здесь, потому что здесь распространяются длинным рядом чрезвычайно высокие площади от 10 000 до 12 000 фут.; в ущелья он убегает в случае опасности.
Альпийские травы, которые там встречаются, чрезвычайно питательны. Эти травы самые бараньи - кипцы, полынки и даже солянки, несмотря на высоту этих степей, которых солонцы тоже привлекательны для горных баранов".}.
И тут кстати два слова о Памире, этой географической загадке; на карте Средней Азии Гумбольдта он помечен по разным маршрутам в нескольких местах у вершин Сыра, Аму и Тарима, всё с вопросительными знаками.
Один из этих Памиров приходится как раз на месте Аксайского плоскогорья, которое, действительно, соответствует описаниям Памира, даже и тем, что у истоков Кыны и Теректы; это плоскогорье неограничено хребтом, а прямо составляет вершину подъёмов с Атбаши и из Кашгара.
Я полагаю, что Памир не один, - их несколько на местах, оаначенных на гумбольдтовой карте; думаю даже, что на этой карте отмечены не все Памиры, и думаю далее, что Памир есть географическое нарицательное, означающее плоскогорье выше предела роста деревьев - как киргизское имя сырт.
Памир и сырт синонимы, только на разных языках; не знаю, впрочем, к какому языку принадлежит слово памир, но звук его индо-европейский, сходный с санскритским меру, именем священной горы индусов; ещё созвучнее с русским по-миру; в этом слове есть наш русский корень - мир или мiр.
Известно, что нагорье у вершин Сыра, Аму и Тарима считается родиной индо-европейского племени, которое на нём только отчасти заменено теперь тюрками, узбеками, кипчаками и, всего более, каракиргизами: у вершин Аму, уцелели еще неисследованные, но и по всем скудным о них сведениям индо-европейские народности горных таджиков, белоров, сиапушей - может быть, еще не утратился и тот язык, на котором памир значит простое высокое плоскогорье.
У Вуда я встретил синоним Памира, чуть ли не персидский {Не говорю наверное, не будучи ориенталистом.}, который, помнится, есть и у Гумбольдта; Бам-и-дюнъя, крыша мира; помню еще (из Ходжи-Бабы) персидское имя Америки Энгидюиья, Новый Свет -- и заключаю, что бам по-персидски крыша: этот звук есть и в Памире, как и наш русский звук мир.
Вероятно, это слово весьма древнее, может быть, утраченного общего индоевропейского языка, давно распавшегося на многие языки, предшествовавшего и санскритскому и зендскому, происшедшим от него; на это указывает соединение в одном слове персидского корня с славянским.
Но довольно корнесловия; не будучи филологом, прошу прощения у читателя, что не за своё взялся. Возвращаясь к распространению Ovis polii. Он известен с четырёх мест, точно определённых. Лейтенант Вуд нашёл его рога у вершин Аму-дарьи, на плоскогорье: Семёнов видел его на сырту, на котором возвышается Хан-тенгри; я добыл полные экземпляры на Аксайском плоскогорье и черепа в Чакыр-тау, у северного Улана,-- но архарьи рога, найденные Полторацким у Чатыр-куля, уже не этого вида, впрочем я их тогда не умел определить, по недостатку материала.
К Чакыр-тау подходит с юга Аксайское плоскогорье, продолжающееся между Бос-адыром и Чакыр-тау, вверх по текущей с северо-востока в Аксай р. Межерюм; у её вершин уменьшается относительная высота Чакыр-тау, и Аксай-сырт переходит в Нарынский, простирающийся через плоский водораздел восточной вершины Нарына и западной Сары-джаса до подошвы Хан-тенгри.
По Чакыр-тау проходит узкая полоса, на которой О. polii попадается вместе с О. karelini Упоминаемый Марко-Поло огромный баран плоскогорий, валяющиеся рога которого служат норами для лисиц, найден на Памире, который Вуд считает тождественным с посещённым им самым высочайшим плоскогорьем у истока Аму-дарьи из озера Сары-куль {Тут Вуд и нашел рога О. polii, впервые описанные Blyth. Но под именем рас местные киргизы описывали ему ещё крупного зверя этих плоскогорий, с рогами, спирально закрученными, но не выгнутыми, а прямыми; Вуд этого зверя не видал и рогов не нашел (Woоd, Journey to the Oxys, p. 368; Китайский Туркестан Риттера., перев. В. В. Григорьева, прим. перег. CD XXXV, стр. 503).} (Sea victoria), поднимающимся до 16 000 ф.
Он нашёл мало снега на этих высотах, и, вследствие этого, каракиргизские аулы были здесь еще в декабре; малоснежны зимой, по собранным мной сведениям, и сырты у Нарына и Аксая.
Но тождествен ли еще памир Марко Поло с посещённым Вудом Сарыкульским плоскогорьем? Конечно, Вуд шел на Сары куль из Бадах-шана к северо-востоку через область Вохан, и Марко Поло говорит, что его Памир к северо-востоку от Бадахшана и тоже пройдя Вохан.
Первый предмет, упоминаемый Марко Поло на Памире, есть озеро; у Вуда - тоже; но тем и кончается сходство. Из озера, по Марко Поло, течёт река, далее по памирской равнине; далее - следовательно, к востоку, так как вся последовательность маршрута от Бадахшана в этом направлении, а река из Сары-куля течёт к западу.
Притом, Памир Марко Поло тянется на 12 дней пути, а Сарыкульское плоскогорье, по Вуду, всего вёрст сорок-пятьдесят с запада к востоку - разве за невысоким увалом, замыкающим его к востоку есть еще более обширное плоскогорье, что неизвестно.
Ближе к описанию Марко Поло подходит Памир-хурд, или малый Памир, у оз. Баркут-ясин, южнее Сары-куля, но и тут есть у средневекового путешественника неподходящие частности, указывающие иные на Каркульское плоскогорье, между Каратегином и Кашгаром, следовательно, севернее обеих только что упомянутых местностей; другие же частности могут заставить искать Памир Марко Поло и южнее даже оз. Баркут-ясин, в неизвестной области истоков Аксерая, т. е. бадахшанской реки, где, по новейшим английским расспросным сведениям (довольно неопределенным), тоже есть весьма высокое плоскогорье с озером, род местности, весьма нередкий во внутренней Азии.
Я еще возвращусь к определению Памира Марко Поло в орографической части настоящего труда, более для того, чтобы доказать то, что здесь упомянуто мимоходом и голословно, так как при наших теперешних, весьма недостаточных сведениях о нагорье у вершин Аму-дарьи еще нет верных данных для этого определения.
Общий же вид описанной Марко Поло местности, жилища его горного барана, встречается и на Тянь-шане {Вид Памира Марко Поло весьма похож на аксайскнй сырт, - высокая равнина с рекой и озером, между двумя хребтами.
Разница только в том, что озеро Аксайского плоскогорья Чатыр-куль, не дает начала Аксаю; оно без истока, между вершинами двух рек - Аксая и Арпы.}. Замечу ещё, что между зверем Марко Поло и хантенгринским качкаром Семёнова можно найти существенное различие в цвете: первый беловат, а качкар тёмнобурый.
Но мой старый экземпляр объясняет это различие: беловат или с проседью, кроме бурого хребта, на котором шерсть длинная, но не совсем свежая, а с выцветшими надревний беловатый рас есть горный баран Поло, а не пряморогий зверь, описанный киргизами Вуду.} и качкара зависит от времени года. солнце и потому порыжевшими концами волос.
Мне кажется, что летняя шерсть этого зверя не выпадает осенью, а подрастает, причём вырастают ещё новые, белые волосы между бурыми -- эта смесь видна на боках моих экземпляров; за зиму бурые волосы еще бледнеют, и зверь становится беловатым, а весной, и едва ли ранней, а разве в конце мая, выпадает весь длинный и светлый зимний волос и заменяется коротким и темно-бурым - летним, так что различие в цвете раса {Если только далеко не такую видную добычу, как качкар, но в научном отношении никак не менее драгоценную составили аксайские рыбы, наловленные казаком Гутовым, и во множестве, просто посредством волосяной петли, навязанной на палочку; эту петлю он надевал в воде на медленно плывущую рыбу и быстро её вытаскивал, причём петля затягивалась.
Читатель, пожалуй, не поверит, - не поверил и я, когда мне Гутов сказал еще на Чилике, что этим способом можно ловить рыбу, но потом я такой лов видел, и даже сам ловил рыбу петлей. Возможность этого лова зависит от крайней осенней прозрачности воды горных речек перед их замерзанием, и от совершенного отсутствия в них рыболовства, которым каракиргизы совсем не занимаются, так что рыба бесстрашна и даже не сторонится от опущенной в воду петли.
Ею Гутов в Аксае наловил большое ведро рыбы, так что, набивши для коллекции все бывшие у меня банки, я из дублетов, которых некуда было девать, сделал, скрепя сердце, препорядочную уху. И теперь еще жалею о тогдашнем недостатке посуды; рыбы Таримской речной системы не существуют ни в одной коллекции, и до моей поездки они были совершенно неизвестны.
Замечательно их крайнее сходство с рыбами притоков Нарына; экземпляры, добытые потом из Атбаши и Оттука, были неразличимы от аксайских, и сохранявшиеся экземпляры османов из всех трёх местностей были Кесслером отнесены к новому виду - Diptychus severtzowi, одинаково водящемуся во всех этих водах, в Атбаши, помнится, нашел я и аксайскую маринку (Schizothorax intermedius), которой Кесслер описал только аксайские же экземпляры.
Вообще в водах Тяньшанского нагорья можно заметить общую горную фауну рыб для трёх различных водных систем: Балхаша, Аральского моря и Лоб-нора, принимающего Тарим: эта фауна характеризуется различными видами Diptychus, Oreinus и Schizothorax, рыб из семейства карповых (Giprinoidae), но род Oreinus представляет, в общих форме и цвете, некоторое отдалённое сходство с форелями европейских горных речек, особенно пёстрые породы, встречающиеся в горных речках Балхашской системы.
До поездки на Аксай я находил османов и маринок в Баскане, притоках Или, в Таласе, Чу, в самых вершинах речек Сырдарьинской системы, например, в Бадаме, притоке Арыса, считал их оттеснёнными вверх, в горные речки, остатками древней арало-балхашской фауны, когда Аральское море еще соединялось с Балхашом, чему есть явственные следы в Голодной степи, но открытие этих рыбок в Аксае даёт другой фаунистический характер этим двум родам рыб; это рыбы горной среднеазиатской фауны.
Неизвестные мне виды этих родов давно найдены и в гималайских речках; потом Федченко нашел их в притоках Зеравшана, даже не достигающих главной реки, и найденные им подтвердили мое заключение о горной рыбной фауне, основанное на аксайских экземплярах.
Все османы и маринки тяньшанских речек, куда бы те ни текли, весьма близки друг к другу, но не везде одинаково спускаются вниз по горным речкам. В бассейне Балхаша они доходят до самого озера, - в Чу - уже только несколько ниже Токмака в Сырдарьинской системе, во всем Нарыне и его притоках, и т. д.{Существующие сведения о распространении туркестанских рыб полнее представлены в моем труде "Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных", 1873.}.
Более полное сравнительное изучение рыб различных водных систем Средней Азии, несомненно, выяснит и геологическую историю разделения этих систем, теперь текущих в степные озёра, но все степи, по которым текут выходящие из Тянь-шаня реки, не что иное, как более или менее приподнятое дно прежних морей: и именно для определения последовательности этого подъёма в различных степях кругом Тянь-шаня сравнение рыбных фаун степных рек и озёр дает весьма существенные данные.
Тогда выяснится и значение и происхождение фауны горных рыб Средней Азии, с её странным зоологическим центром внутри Тянь-шаня, по вершинам горных речек, а при теперешних материалах можно только ввести в науку крайне любопытный, но еще не разъяснённый факт этой горной рыбьей фауны.
Подобный факт найден Гумбольдтом в Южной Америке - кордильерские рыбки, Pimelodes, тоже чисто горные, в ручьях обоих скатов кордильерского водораздела. Для среднеазиатской же ихтиологии особенно важна неисследованная еще озёрная фауна Балхаша, и ее отношение к аральской и горной; и желательно, чтобы ею занялся исследователь, лучше меня подготовленный относительно рыб и низших водяных животных.
Не менее важны, даже более, Лоб-нор с Таримом, но далеко менее доступны. Ещё я заметил в Тянь-шане, что чем выше в горных речках, тем мельче рыба одних и тех же видов, что замечено и в других горах, но Аксай представляет исключение.
Его османы и маринки крупнейшие во всём Тянь-шане, хотя и пойманы на высоте 10 000 фут.; османы до 8 - 9 дм., маринки до 14 дм. - это рост чуйских у Токмака, и показывает, что рост рыб до некоторой степени пропорционален не столько абсолютной высоте, сколько массе воды; вероятно, и быстроте течения, т. е. в сущности условиям, имеющим влияние на обилие пищи для рыбы.
Крупная аксайская была поймана в сравнительно тихой заводи, однако, еще на достаточной быстрине {Аксай, вообще, для Тянь-шаня тихая река, как и Атбаши и верхний Нарын, и все сыртовые реки, но затишья и этих рек в Европейской России считались бы быстринами.}, чтобы вода не замерзала при - 10°.
В небольших омутках южного Кыны есть также рыба -- османы, но крайне мелкие. Вообще османы проникают в более маловодные и быстрые речки, нежели маринки, но и последние подняться снизу по Аксаю могут только через пороги. Или эта рыба на плоскогорье расплодилась от занесённых водяной птицей икринок?
Кстати: икры маринки я и на Аксае остерёгся, потому и не знаю, так ли она вредна, как вызывающая рвоту икра маринки илийской. Помнится, однако, что кого-то в отряде от этой икры тошнило, но не уверен. К полудню 16-го метель стала по временам стихать; появились в лагере пролётные птицы, и притом из довольно рано отлетающих жителей степи и самых низких предгорий -- Emberiza caesia, птица весьма южная, египетская и сирийская, и почти такая же южная Saxicola saltator.
Удивили они меня - на этой высоте и в половине октября! Это птицы, явно сбившиеся с пути на пролёте, под пару виденным 12-го на Тас-су стрижкам (Hirundo riparia). Увидя их, урядник Гордеев отпросился на охоту в Кок-Кия; дождавшись затишья, я его отпустил - и до сих пор жалею, что не поехал сам, а занялся коллекциями в лагере. Взял он дробовик и привез, конечно, только знакомых мне пташек: Saxicola salina - опять птицу жарких степей, которой пролёт у Копала я видел уже в августе; ещё горную красноносую галку, Fregilus graculus и несколько подснежных тяньшанских воробьев, Leucosticte brandtii, но ему представился редкий случай, дорогой для зоолога: наблюдать вблизи тэков (Capra sibirica).
Найдя спуск в ущелье Кок-кия, он из-за утесов, шагов на пятьдесят или ближе нечаянно подошел к целому стаду тэков, укрывавшихся от метели; на дне ущелья было почти тихо, и в этом месте даже почти бесснежно; гонимый ветром снег проносился через эту тесную и глубокую трещину.
Приметивши его, но не почуявши, тэки, не торопясь, полезли по утесам; тут были и самки, и молодые, и два длиннобородых старых козла, с гигантскими рогами, которых концы сзади поднимались почти над хвостом; завидная добыча в коллекцию.
Тэки по-временам останавливались и с любопытством оглядывались на нарушителя их убежища {Это бесстрашное любопытство тэков я впоследствии наблюдал и сам, о чем далее. Длина рогов Гордеевым не преувеличена; он мне принес из Кок-кия два черепа с рогами почти в 4,1 фут.}, где был во множестве и их помет, а стрелять было нечем -- ни винтовки, ни даже пули для ружья; так и скрылись, чуть ли не ездили за ними вторично, не помню кто еще с Гордеевым, но тогда их и след простыл.
Добыты и замечены на Атбаши и Аксае вообще следующие птицы: в ельниках и можжевельниках по Атбаши добыты: 11 октября Surnia nisoria, Carpodacus rubicilla, Güld (caucasicus Pall.)*, Regulus flavicapillus, все в елях; 12- го *Emberiza cioides, E. pithyornis, обе в можжевельниках; 13-го - Scolopax hyemalis; на Тас-су; 18-го - Parus songarus, Coccothraustes speculigerus, обе в елях у Тас-су; Emb. pithyornus, там же в можжевельнике.
Замечены;* Astur nisus, Falco aesalon, *Salicaria sp.-- опять запоздалая; Columba rupestris, Erythrospiza phoenicoptera, Fregilus graculus, Corvus corax, C. corone, C. cornix, Pica caudata, Nucifraga caryocatactes, Leptopoecile sophiae, Turdus merula, T. pilaris*, Perdix daurica Lanius excubitor (вероятнее, L. leucopterus nob.); *Ruticilla phoenicura,* R. erythrogastra,* R. erythronota; R. lugens; Cyanecula suecica; Falcirostra kaufmanni.* Hirundo riparia, *Motacilla dukhunensis, Tichodroma phoenicoptera, Certhia familiaris, *Motacilla sulphurea,* Alcedo ispida, *Phyllophneuste superciliosa, Parus songarus, n. sp., P. rufipectus n. sp., Coccothraustes speculigerus, Corvus monedula (до 9 600 фут.), *Sturnus unicolor -- все выше 9 000 фут.; отмеченные звездочкой -- летние и пролётные, и эти уже в малом количестве особей; таких еще 20 видов, всего 41.
На Аксае добыты: Leucosticte brandtii, все в горах Кок-кия, по ущельям и травяным склонам, огромные стаи до высоты 12 000 фут., строги; *Saxicola salina., *S. saltator, *Emberiza caesia, Fregilus graculus; замечены: *Vultur cinereus, Gyps nivicola, n. sp., Gypaetos barbatus, *Haliaetos albicilla (не взрослый; казак его описывал круглохвостым орлом, цвета уллара, с перистой шеей и толстым желтым клювом); *Astur nisus, *Circus cyaneus, Corvus corax, *G. corone, C. cornix, *C. monedula, Fregilus graculus, Passer montanus, *Fringilla montifringilla, Fr. nivalis, Leucosticte brandtii, *Ruticilla phoenicura, Saxicola saltator, S. salina, *Tichodroma phoenicoptera, Falcirostra kaufmanni, *Emberiza pithlornis, Cinclus leueogaster, *Emberiza cia, Alauda albigula, A. arvensis и *Columba sp.; темная, - всего 27 видов, из них 16 летних или пролётных, более последних.
Не уверен в Fr. nivalis, которой не добыл, чтобы жила с Leucost. brandtii; может быть, иногда издали принимал и последнюю за Fr. nivalis; обе сероваты, желтоклювы, белокрылы, белизна Fr. nivalis гораздо резче, но это видно вблизи.
За ночь метель стихла; захолодало, выглянули звезды - и 17-го я, наконец, дождался великолепно ясного дня для съёмки, которую для ускорения в такое позднее время года я уже с 14-го решил производить в уменьшенном масштабе, 10 вёрст в дюйме. 13-го был промерен базис, взяты пункты на прежнюю съёмку, вверх по южной Кыны.
15-го Вязовский успел нанести Бос-адыр и ближние части Кок-кия; пункты вверх по Аксаю можно было нанести в походе, с некоторых высот вдоль южного Кыны, а потом 17-го мы тронулись в обратный путь; пришлось отказаться от рекогносцировки к перевалу Теректы, по позднему времени года, однако, и он издали был нанесён на съёмку, для которой до 17-го приходилось улавливать проблески ясной погоды, что возможно только на месте, а не в походе.
Впрочем, я должен признаться, что эта замена похода к Теректы трехдневной остановкой против Чатыр-таса не была мне прискорбна: неизвестно, что бы ещё доставил поход, а на месте были добыты величайшие зоологические редкости, уже упомянутые.
Метель 15-го и 16-го, начавшаяся мелким сухим снегом и вихрем, при котором порывы ветра были то с северо-запада, то с северо-востока, с юго-востока и с юго-запада, кончилась оттепелью и мокрым снегом, и всё-таки мелким, при чистом юго-западном ветре; затем он перешёл в северо-западный, причём прояснило, и 17-го мы выступили в весьма чувствительный мороз, при слабом северо-восточном ветре, который скоро стих; при снятии лагеря я заметил молодую траву, пробивавшуюся под кошмами, на которых лежали люди.
Отойдя вёрст десять, я заметил дорогу, идущую с северо-востока, наискось через плоскогорье, и пересекающую наш путь; это дорога с Заукинского перевала к Теректинскому, через перевал Чакыр-курум у Тарагая (верхнего Нарына); по этой дороге проник в Кашгар Ч. Ч. Валиханов.
Тут я поднялся на вершину высокого холма у южного Кыны, чтобы срисовать вид гор Кок-кия; на этот раз я развел уже огонек из местных полынок, растопил в чашке снег и кипятил воду для рисования красками, так что они не ложились уже льдинками на бумагу.
С высоты, на которой я находился, открывался обширный вид на всё плоскогорье, побелевшее от недавнего снега, но несколько часов солнечной погоды уже вновь успели образовать проталины, на одной из которых, и притом уже обсохшей, я и поместился.
Полоски проталин виднелись и на отлогостях Кок-кия, обозначая солнцепёки по краям лощин, а выше, между снегами, чернели обнаженные утесы, до самых вершин пиков, синели и полосы обледенелого вечного снега, с которых свежий вчерашний был сдут ветром.
Справа, на северном крае плоскогорья, возвышался тоже высокий хребет вдоль Атбаши, Уюрмень-чеку, кончающийся крутым скалистым мысом верстах в трех западнее перевала Тас-асу; вёрст тридцать далее к востоку за истоком Балык-су, виден опять ряд пиков Сары-таш; они уже много ниже Уюрмень-чеку, поднимающихся до 16 000 фут. {В 1868 г., при рекогносцировках во время постройки генералом Краевским укрепления на Нарыне, Буняковский поднимался на Джиль-тегермен, одну из вершин Уюрмень-чеку.
Он дошёл до 14 900 фут., и крайний пункт своего подъёма измерил барометрически; вершина ему показалась ещё слишком на 1 000 фут. выше; он её полагает в 16 000 фут.}, с перевалом Богушты в 12 750 фут. С места, откуда я смотрел, высочайшие пики Уюрмень-чеку и Кок-кия были видны в одинаковом расстоянии, но последние представлялись гораздо выше, что подтверждает мое уже упомянутое и основанное на других данных определение высоты Кок-кия около 18 000 фут., и скорей более, нежели менее этой цифры.
Зато Уюрмень-чеку представляет довольно ровный ряд высоких пиков, вместо двух господствующих вершин Кок-кия; с места, где я был, этот ряд виден весь; он тянется и у северного берега Чатыр-куля, называясь тут уже Узектын-бель и все сохраняя ту же высоту; даже Ташрабатский перевал, в Узектын-беле, поднимается до 12 900 фут (по определению Буняковского), следовательно, несколько выше Богушты. Всего верстах в двадцати семи западнее этого высокого перевала, против западного конца Чатыр-куля, Узектын-бель кончается крутым мысом; обходя его с запада, можно перейти с Чатыр-куля в долину Арпы, не переходя никакого хребта, а оттуда почти ровной же дорогой выйти на р. Кара-коин, текущую с юго-запада к северо-востоку навстречу Атбаши, в которую впадает, к северо-западу от перевала.
Эти-то горы Уюрмень-чеку и Узектын-бель, составляющие один непрерывный хребет, и названы Тянь-шанем в таблице высот Буняковского - согласно с Central Asien Гумбольдта, где Pass Rowat, т. е. Ташрабатский перевал, полагается на главном хребте Тянь-шаня.
При сведениях, которые тому слишком 30 лет были доступны Гумбольдту для его великого труда {Мне часто как очевидцу описываемых Гумбольдтом мест приходится указывать на неточности его среднеазиатской топографии, но это нисколько не препятствует моему глубокому уважению к этому превосходному, ясному, отчётливому и систематическому своду древних и азиатских географических сведений; без изумительной эрудиции и гениального соображения Гумбольдта и Риттера эти сведения так бы и остались бесполезным хламом, а собранные и группированные ими составили незаменимое руководство для первых исследований на месте.}, вполне естественно принять высокий хребет на главном водоразделе Западного Тянь-шаня за продолжение главной оси всей системы, но со стороны очевидца, бывшего и на Чатыр-куле, и на Тас-асу, и на Кыны -- это крупный географический промах, предостеречь против которого я считаю своей научной обязанностью.
Этим промахом затемняется и искажается весьма характеристическое для всей горной системы отношение её хребтов к водоразделам. Если очевидец принимает Уюрмень-чеку за Тянь-шань в смысле Гумбольдта {Зимой 1868 - 1869 г.г. Буняковский доставил Географическому обществу свои определения тяньшанских высот, и в том числе предела деревьям на Шамси и на Тянь-шане; я положительно не мог понять, к какому хребту относится последнее определение -- пока, при моем сообщении обществу об описываемой здесь поездке, генерал Краевский не заметил, что Уюрмень-чеку (названный мной тогда Ташрабатским хребтом) правильнее и научнее называть Тянь-шанем, против чего я возражал, и здесь несколько развиваю свои возражения.
Доводы Краевского состояли в том, что Уюрмень-чеку есть большой водораздел и наша китайская (ныне кашгарская) граница, но дело в том, что он только часть водораздела и совпадающей с ним границы.}, то этим самым он дает понять, что этот хребет к востоку связывается с Хан-тенгри, а к западу через Кашгар-даван продолжается снеговыми горами, ограничивающими Фергану, долину среднего Сыра, к югу от Коканда и Ходжента.
В этом смысле и показан Уюрмень-чеку на карте, составленной знаменитым Петерманом к Sertum Tianschanicum Остен-Сакена и Рупрехта, описанию растений, собранных Остен-Сакеном при его походе с Полторацким; на этой карте Уюрмень-чеку назван Тянь-шанем и от Таш-рабата к востоку означен всё увеличивающимся в вышину и ширину; он же (будто бы) отделяет Чатыр-куль от вершин Арпы, образуя тут седловину {В этом месте карты есть штрихи, как-то нерешительно связывающие Уюрмень-чеку и с Джаман-даваном к северу от Арпы и с Кашгар-даваном к югу от неё.
Видно, собственно, не соединение хребтов, а желание их соединить, остановленное, впрочем, наглядным и простым, без орографических построений, описанием очевидца, Остен-Сакена.
На этой карте, вообще, любопытно видеть, как при составлении её знаменитый картограф старался примирить несогласимое: подлинные съёмки со своими предвзятыми идеями.}, и далее к западу продолжается Кашгар-даваном, образуя южный край долины Арпы, что все неверно:
1) Уюрмень-чеку тянется всего на 110 вёрст, от Тас-асу до западного конца Чатыр-куля; оба его конца, и восточный и западный, резко обрываются крутыми скалистыми мысами, и оба отделены 20--30-вёрстными промежутками от всякого другого хребта.
Восточнее Тас-асу водораздел есть бесхребетная окраина Аксайского плоскогорья, у спуска к долине Атбаши, образующей впадину в этом плоскогорье. А западнее Чатыр-куля почти неприметные увалы, сливающиеся с общей равниной, составляют водоразделы между Чатыр-кулем и Арпой, и между Арпой и Кара-коином.
2) Водораздел Нарына и Таримской системы, вообще, совсем не идёт по одному хребту, который бы можно считать главным тяньшанским, хотя на Петерманновой карте главным хребтом системы прямо назван Уюрмень-чеку.
Этот водораздел по сырту переходит с одного хребта на другой, а между этими хребтами, вообще не длинными и отдельными друг от друга, водораздел идёт плоскими, неприметными увалами. Таким увалом этот водораздел у Чатыр-куля переходит с хр. Узектын-бель, кончающегося тут мысом, на хр. Суёкты, отделённый от первого озером и кончающийся тоже мысом, но против восточного конца Чатыр-куля; эти хребты соединены только тем, что оба на одном плоскогорье, но на нём так же раздельны, как Уюрмень-чеку и Кок-кия.
3) Наконец, нельзя называть Уюрмень-чеку собственно Тянь-шанем, главным хребтом системы, ещё и потому, что такой главный хребет, вообще, существует только к востоку от Хан-тенгри, к Богдо-ола и восточнее, к Баркюлю и Хами. А к западу от Хан-тенгри есть только сложная система плоскогорий и коротких хребтов, между коими ни один не является главным и не составляет всего протяжения какого бы то ни было первоклассного водораздела, из которых все исследованные, не один Нарыно-таримский, переходят с хребта на хребет.
Кажется, сказанного достаточно, чтобы сделать географически невозможным имя Тянь-шаня не только для Уюрмень-чеку, но для всякого отдельного хребта к западу от Хан-тенгри: тут можно только говорить о Тяньшанской системе сыртов и хребтов.
Главный же хребет, по китайским сведениям, весьма явственный к востоку от Хан-тенгри, к западу даже не разветвляется, а расширяется в сырт, в плоскогорье, усеянное короткими хребтами, отчасти весьма мало, а отчасти значительно поднимающимися над общей поверхностью сырта.
Продолжения тут главного хребта искать нечего, а главным разветвлением его к западу можно назвать только окраины плоскогорья - и то с натяжкой; южная окраина, повидимому, не составляет одного непрерывного хребта; тут, между Аксаем и Сары-джасом, должна быть сложная путаница хребтов разной высоты, раздроблённых продольными и поперечными долинами, судя по тому, что я видел со склона Кок-кия, смотря вниз по Аксаю, - да и западнее тоже, по сравнению маршрутов к Кашгару Полторацкого и Рейнталя.
Северная окраина сырта, напротив, представляется сплошным хребтом, понижающимся к западу от истока Каркары, у подошвы Хан-тенгри, до вершин Джумгола и вдоль его долины, отделяя её от Каракола, на пространстве 450 вёрст, прерываясь только узкой трещиной Джуван-арыка; а к западу от Джумгола, после прорыва узкой же трещиной Суса-мыра, является продолжение этого же ряда высот вдоль южных окраин долин Сусамыра, Таласа, Терсы и Арыса - еще на 450 вёрст, всего 900.
Этот ряд высот Проценко, взойдя на многие перевалы, пересекши его через Сонкульское плоскогорье, проследивши его от Хан-тенгри до Джумгола, назвал главным хребтом западного Тянь-шаня - конечно, не точно, потому что тут почти 1 000-вёрстный хребет, принимаемый им, как выше сказано, на всем пространстве от Хан-тенгри до Арыса {Проценко.
Обзор путей из Заилийского края в Кашгарию (рукопись). Там, впрочем, западной оконечностью этого хребта неправильно принят Кара-тау.}, есть только кажущийся, а не настоящий длинный хребет; в действительности это ряд коротких хребтов, различных и по высоте, и по орографическому характеру, и по геологическому образованию, и по самому направлению; они сходятся под тупыми углами, но всё же сходятся.
И всё-таки такой длинный ряд хотя бы коротких хребтов, но соединённых между собой и, приблизительно, по направлению настоящего Восточного Тянь-шаня, более похож на его продолжение к западу, на главный хребет, нежели короткий, 100-вёрстный, обрывающийся обоими концами и ни с каким другим хребтом не соединённый Уюрмень-чеку.
Семёнов, первый исследователь Тянь-шаня, определил его ещё ближе к истине, нежели Проценко: перейдя оба хребта Заилийского Ала-тау, осмотревши Терскей-Ала-тау с обоих концов Иссык-куля и поднявшись к сырту по Каркаре и Зауке, - он увидал на сырту ещё снеговые хребты, в том числе и Хан-тенгри - и их, вместе с Терскей-Ала-тау, назвал Тянь-шанем, не определяя в его массе никакого главного хребта.
Таким образом, Тянь-шань Семёнова есть уже не один хребет, а весь сырт, со всеми хребтами на его окраинах и на его площади, т. е. настоящая главная масса Западного Тянь-шаня.
От этой массы Семёнов в своем орографическом обзоре хребтов у Балхана и Иссык-куля {Семенов, Petermann's Mittheilungen, 1858.} отделяет не только Семиреченский, но и ближе соединенный Заилийский Ала-тау - оба принадлежащие к Тяньшанской системе, но оба же представляющие в ней явственно обособленные части, до некоторой степени отдельные от главной горной массы Сырта к западу и высочайшего хребта к востоку от Хан-тенгри, которую и теперь можно назвать Тянь-шанем в тесном смысле.
И если Семёнов употребил имя Тянь-шань только в этом тесном смысле, так это потому, что он строго соображался с имеющимися у него в 1857 г. верными съёмочными данными и воздержался от сомнительных орографических построений целой системы {А в 1866 г. он уже писал, согласно со мной:
- "Заилийский Ала-тау со своими отдалёнными продолжениями на востоке и западе, несомненно, образует передовую цепь Тянь-шаня, от которого весьма мало различен и геогностически" (Записки Географического общества по общей географии, 1867, стр. 235).}.
Результатом вышло то, что он положил прочное основание среднеазиатской орографии, т. е. орографии положительной, а не гадательной по скудным азиатским источникам, создал труд, к которому естественно примыкают, в качестве дополнений, все последующие рекогносцировки, но в котором поправлять почти нечего.
Его схема параллельных хребтов не полна: она характеризует не всю систему, а только часть, вокруг Иссык-куля, но эта схема вообще верна, и если последующие исследования распространяют её и на хребты восточнее Хан-тенгри, что вероятно по существующим китайским сведениям, так это будет поводом отличать Тяньшанскую систему параллельных хребтов от Туркестанской системы пересекающихся, несмотря да то, что обе системы составляют непрерывное нагорье.
К этому непрерывному нагорью принадлежит ещё и третья, Гималайская система, и четвертая, Внутренне-китайская, у истоков Хуан-хэ и Ян-дзы-дзяна - не называть же их все частями Тянь-шаня. Прибавлю, что характеристическое для Тянь-шаня, как и для Гималая, как и для Алтая, уклонение водоразделов от хребтов, уклонение, важность которого Семенов оценил уже по Каркаре и Сары-джасу, текущим в противные стороны с одного плоскогорья, через поперечные трещины высоких хребтов, весьма ясно и у Чатыр-куля, так что должны бы предохранить исследователя этой местности от ошибки счесть коротенький 100-вёрстный хребет главным в огромной горной системе; такая ошибка невозможна без опровергаемого тут же местной природой смешения понятий водораздела и хребта.
И в разветвлении Тянь-шаня к западу от Хан-тенгри надвое - собственно Тянь-шань и занарынский сырт, принятых Проценко, скрывается тоже смешение понятий. Надвое делится водораздел, т. е. восточнее Хан-тенгри есть один главный водораздел, между Или и прочими северными степными реками, и притоками Тарима, а западнее - их два: между степными реками и Сырдарьинской речной системой, и между Сырдарьинской и Таримской.
Однако, и при неточном названии водоразделов хребтами тут всё-таки выражена действительная и капитальная черта в орографии и гидрографии Средней Азии; но что выражает название исключительно гор Уюрмень-чеку громким именем Тянь-шаня?
Просто непонимание орографического характера последнего, который именно тут, при множестве хребтов, отличается отсутствием между ними главного, могущего хоть с натяжкой получить имя всей системы. Этим можно и кончить слишком длинное полемическое отступление об общей орографии Тянь-шаня по поводу Уюрмень-чеку и возвратиться к обзору Аксайского плоскогорья: на этот раз, при ясной погоде, несколько выделялись на его общей волнистой поверхности долины притоков Аксая; их углубления обозначались более широкими тенями, т. е. непрерывными рядами обнажённых от снега солнцепеков вдоль всего течения каждой речки, особенно у правых притоков, у которых солнечная сторона долины обращена к юго-востоку.
Этим особенно ясно выделялась реч. Теректы, главный исток Аксая, прорывающий пониженное западное продолжение гор Кок-кия, а берущий начало далеко сзади: за Кок-кия виднелся ещё конец снежного хребта, а за этим уже являлась весьма отлогая и плоская гряда, с которой течёт Теректы.
Эта гряда и есть край плоскогорья, на которое выходят мысами к западу Кок-кия и хребет непосредственно за ним; в промежутке этих двух скалистых хребтов находится упомянутое уже высокое озерко, дающее начало реч. Кок-кия, может быть, самое высокое озеро в Тянь-шане {Впрочем, едва ли многим выше барскаунского озерка, на вершине перевала, измеренной Каульбарсом в 12 700 фут. - котловинка с озером на этой вершине углублена футов на 20 - 30, не более.}.
К западу горизонт замыкался слабо волнистой линией, идущей от теректинской гряды к Узектын-белю: это увал, отделяющий Аксайское плоскогорье от плоской же и высокой котловины Чатыр-куля; он и в 80-вёрстном расстоянии представлялся приметно ниже теректинской гряды, и подъём на него с Чатыр-куля неприметен, так что высоту этого увала можно положить около 11 500 фут., при определённой Буняковским высоте Чатыр-куля в 11 050 фут., высота же Теректинского перевала, по барометрическому измерению Рейнталя, достигает 12 600 фут.
Над этим небольшим увалом, ближе к Узектын-белю, стояло у самой линии горизонта небольшое облачко, одно на всём небе; это сгущался в холодном воздухе пар от замерзающего Чатыр-куля, на месте которого и согласно с шириной озера как раз приходилось облачко у горизонта; таким образом, определилось время замерзания Чатыр-куля - 17 октября, совершенно согласно с незамёрзшим ещё 4 октября барскаунским озерком, которое значительно выше Чатыр-куля; средина последнего была ровно в 100 верстах от холма, с которого я смотрел.
Ещё далее и немного левее, южнее чатыркульского пара виднелись снеговые вершины, которых основание уже было закрыто выпуклостью земли, но контуры ещё совершенно отчётливы, при необыкновенной прозрачности разреженного на плоскогорье воздуха.
Это были пики у перевала Суёкты, западнее Чатыр-куля, образующие южный край широкой долигы Арпы. Впрочем, 1 ясные дни зимой, весной и осенью, когда прозрачность воздуха не нарушается высоко поднимающейся мелкой пылью, снеговые горы Средней Азии отчётливо видны и много далее 130 вёрст прямолинейного расстояния перевала Суёкты от южной Кыны.
Так, с холмов на правом берегу Келеса, между Чимкентом и Ташкентом, видны горы К'арлы-тау {От тюркского слова к'ар, снег, в котором буква к' выговаривается с придыханием, как средний звук между к и х, но это не сложный звук кх, кхар.} (Ак-тау, или Асферах Гумбольдта), возвышающиеся к югу от Ходжента; с Келеса эти горы видны на расстоянии 270 вёрст, но и относительная высота их слишком вдвое больше пиков у Суёка: те поднимаются около 6 000 фут. над Арпой, а К'арлы-тау до 15 000 - 16 000 фут. над ходжентской степью; абсолютная высота и тех и других одинакова, около 16 000 - 17 000 фут., к востоку вид был более ограничен.
Левее и значительно далее близкого Бос-адыра поднимались пики Сары-таш, которых гряда идёт от истоков Балык-су прямо к востоку, с самым незначительным уклоном к югу. Между Сары-ташем и Бос-адыром выходит на Аксайское плоскогорье широкая долина р. Межерюм, текущей в Аксай; её поворот, огибающий Бос-адыр, уже описан, а верхняя часть долины; известна сильными снежными вьюгами, о которых мне говорили киргизы; эти вьюги бывают и во все летние месяцы, и их упоминает Каульбарс {Надписью на виденных мной, еще не изданных картах.}, прошедший в 1869 г. по этой долине с перевала Чакыр-курум; но летние вьюги нисколько не означают вечного снега.
На всём сырту растительность орошается не дождем, а быстро тающим летним снегом, который я видел и на меньших высотах, у вершин Чирчика, в ущелье Кара-кыстак (Записки Географического общества по общей географии, 1867, т. I, стр. 104.), на высоте 8 100 фут., 29 июня 1864 г.
Часа два я провёл на месте, рисуя и рассматривая общий вид Аксайского плоскогорья; съёмка его была произведена засечками, с западных, пунктов у Кыны, и кончена до заката солнца. Съёмочная партия приехала на ночлег, когда уже совсем стемнело, да солнце было уже невысоко, когда и я подъехал к перевалу, т. е. собственно на промежуток между вершинами Тас-су и северного Кыны.
Тут не было никакого хребта; плоскогорье просто вдавалось между обоими ущельями мысом, суживающимся к северу и круто обрывающимся к востоку и западу; на верхней площади этого мыса, несколько волнистой, поднимаются округлённые яшмовые сопки, весьма невысокие и неправильно рассеянные, а там, где он суживается, его края иззубрены оврагами, круто спускающимися к обеим речкам.
Выехавши на мыс, можно видеть к северу горы за Атбаши, затем влево, круто поднимается восточный конец Уюрмень-чеку, который кажется совсем рядом, а вправо - всё еще вдали, невысоко над плоскогорьем поднимается Сары-таш; я его полагаю около 12 500 фут., не более.
Оглянулся я в последний раз и назад к Аксаю, на великолепные пики Кок-кия, оставшиеся мне недоступными, - и жаль мне было расстаться с ними, не поднявшись к их загадочному озеру, не посмотревши хоть с края сырта на спуск к Кашгару, не спустившись по ущелью Аксая: всякой экскурсии далее 8 - 10 вёрст от лагеря помешала погода, а 17 октября напоминало, что пора домой, в наши укрепления, пока еще не занесены снегом тяньшанские перевалы.
Из них Тас-асу уже в этот один день успел почти совершенно освободиться от вчерашнего снега, да и на всём плоскогорье он против утра уже значительно поубавился; видно было, как росли проталины, хотя весь день был морозный и вода быстро мёрзла и на солнце, так что снег, видимо, испарялся почти без таяния.
Больше его оставалось в ущелье, где были надуты небольшие сугробы; это ущелье, или, вернее, долина, представляющая ряд довольно широких луговых котловин, разделённых довольно лесистыми увалами, была быстро пройдена под гору, я в ней догнал и обогнал отряд и выбрал ночлег на широкой проталине, верстах в пяти от Атбаши.
Однако и тут пришлось несколько расчищать снег, скрывавшийся под травой. Во весь этот день не было с нами Атабека, который еще 16-го, в метель, отправился на охоту в Кок-кия за тэками; он с несколькими джигитами приехал, наконец, поздно ночью, а на другое утро, 18-го, я увидал и большей частью приобрёл в коллекцию его добычу; старого самца не было, а только самки и молодой прошлогодний самец с коротенькими рожками.
Цвет этих самок был серо-буроватый, с беловатым брюхом; помня темнобурое брюхо Capra sibirica, я подумал, что аксайские тэки, может быть, особого вида, и тем более, что рога старейших самцов, по тамошним добытым мной черепам, представляют весьма отлого закрученный оборот спирали, а не простую дугу; но, по возвращении в Петербург, внимательный осмотр алтайских Capra sibirica в музее Академии убедил меня, что к этому же виду, а не к особому принадлежат черепа самцов, а может быть и кожи со скелетами самок, добытые мной на Кок-кия.
Таким образом, распространение южносибирского тэка к юго-западу гораздо обширнее, нежели распространение живущего с ним на Алтае вида архаров Ovis argali, Pall., который на Тяньшанской системе заменяется целыми четырьмя видами. Но тэков, как я подробно объяснил в другом труде {"О горизонтальном и вертикальном распределении туркестанских животных", 1873.
Впрочем, шкуры и черепа тэков, самцов, весной 1872 г., присланные в Москву генералом Колпаковским, принадлежат, повидимому, двум видам: Capra sibirica и ещё какому-то с светлым брюхом и сходящимися сзади рогами.}, не разобщают пастбища домашнего скота в горах: тэки распространяются по скалистым кряжам, для архаров недоступным; их распространение потому почти сплошное, распространение архаров более спорадическое; наконец, домашние конкуренты тэков относительно пастбища, козы, далеко не так многочисленны, как стесняющие архаров стада баранов. Одним словом, большее для архаров разнообразие условий борьбы за существование, сравнительно с тэками, произвело большое раздробление их общей с тэками области распространения на участки с особыми характеристическими видами; архар, собственно, зверь подгорных степей, оттеснённый выше в горы и образовавший там разобщённые между собой колонии; тэк, напротив, коренной горный житель.На следы стада тэков, виденных Гордеевым во время метели, Атабек не напал; он в этот день проехал вдоль Аксая и поднялся к р. Кок-кия близ её устья, думая найти укрывавшихся от бурана качкаров, за которых я щедро платил, - и, действительно, самка качкара до сих пор неизвестна; но качкара не нашлось, и киргизы повернули на Кок-кия за тэками.
Между тем, под вечер метель стихла, тэки разбрелись на пастбище; удалось добыть только одну самку, которой охотники поужинали; в ущелье они нашли только что покинутое место аула чириков, ушедших, как услыхали 14-го мои выстрелы по птицам у Кок-кия, после которых они, пожалуй, и неприметно высмотрели {М. А. Хлудов, первый русский купец, открывший торговлю в Кашгаре, весной 1868 г. сказывал мне, что тамошний владетель Якуб-бек узнал еще с осени о моём походе, вероятно, от этих чириков.
Во время постройки нарынского укрепления полковником (ныне генералом) Краевским Якуб-бек не без досады говорил М. А. Хлудову, что с 1867 г. все русские полковники у его границы ходят и письма к нему пишут, кроме одного, получше, видно, других, так как он ничего ему не писал.
Этот неписавший полковник был я.} лагерь, которого соседство и побудило их откочевать; замечательно позднее пребывание этих чириков в таком высоком ущелье, напоминающее памирские зимовки каракиргизов, к которым принадлежат и чирики, найденные лейтенантом Вудом у истока Аму-дарьи из оз. Сары-куль.
Переночевавши у покинутого аула, где нашлось и топливо (кизяк и обломки кибиточных решеток), наши киргизы 17-го продолжали охоту в Кок-кия и добыли опять одних самок с молодыми, а старых самцов только видели издали. В обратный путь, по нашему следу они отправились только вечером.
Молодые тэки составляют вкусную дичь, старые самцы, вероятно, с таким же вонючим мясом, как и домашний козёл или старый качкар, которого мясо с противным мускусовым запахом. Кстати, о качкаре: по тому, что добытый нами двухлетний был еще вкусен и ни козлом, ни мускусом не вонял, я полагаю, что он достигает половой зрелости не ранее трёх лет; самые молодые рога погибших в драках даже четырехлетние.
Тэк значительно меньше архара; самка не более 4,1 фут. длины, самец - около 5 фут.
Источник:
«Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шаня». Совершены по поручению Императорского русского Географического Общества. Совершены доктором зоологии, членом Императорского Русского Географического Общества и других ученых обществ Н. Северцовым. С-Петербург. 1873 год.







