You are here
Верный. Копал. Сель и землетрясение в Верном в 1921 г.
«В Н. Шнитников с с 1907 по 1921 годы включительно занимался изучением природы Джетысу, преимущественно - фауны позвоночных. За этот период В.Н. Шнитниковым в пределах области было сделано экспедиционным порядком, т. е со сбором коллекций и ведением дневников, около 24000 верст. Большая часть собранных коллекций поступила в 3. М. А. Н., часть в Джетысуйского областного музея, наконец, часть находится у Ш. Что касается размеров собранных коллекций, то сбор по позвоночным превышает 3200 экземпляров, насекомых собрано около 20 000, паукообразных около 2000 и т. д. Помимо зоологических сборов Шнитниковым собран также гербарий около 2500 листов и сделаны сотни фотографических снимков местной природы. Кроме печатных работ, упомянутых в библиографическом указателе, Шнитниковым написан ряд работ обще-географического и зоологического содержания, лежащих пока в рукописях и являющихся результатом частичной обработки собранных материалов».
В этой книге нет ни одного слова выдуманного. Все было именно так, как здесь написано. Даже имена везде настоящие.
Автор.
От издательства.
Доктор зоологических наук В. Н. Шнитников - один из первых исследователей фауны Казахстана. Его перу принадлежит ряд научных трудов, вышедших в издании Академии Наук СССР и других издательств. Популярные книги о животных, написанные В. Н. Шнитниковым, сделались любимыми книгами детского читателя.
Так, вполне заслуженной симпатией детей пользуется труд автора «Звери Казахстана» и другие. Издательство надеется, что предлагаемая вниманию детей и юношества книга «Из воспоминаний натуралиста» будет также тепло встречена читателями.
В этой книге автор в увлекательной форме рассказывает о том, как он, начиная с детства, настойчиво преодолевая все препятствия на своем жизненном пути, занимался своим любимым делом - изучением природы. В этом отношении книга имеет большое воспитательное значение.
Выпуском в свет настоящей книги издательство отмечает недавно исполнившееся 35-летие научно-исследовательской работы В. Н. Шнитникова в Казахстане. Несмотря на тяжелые условия военного времени, издательство находит необходимым издать настоящую книгу также в целях удовлетворения спроса на научно-популярную литературу для детей и юношества.
X. Семиречье. Верный.
в 1907 году я попал в Среднюю Азию, в Семиречье, и был поражен богатством и разнообразием местной природы. Впрочем, еще раньше, чем добраться до места своего будущего жительства - города Верного, теперь столицы Казахстана - Алма-Ата, я знал о том, что найду в этом крае богатейший мир пернатых.
По пути в Верный я заезжал в Ташкент, где в то время жил Н. А. Зарудный. Этот замечательный исследователь, уже много лет работавший в Азии, указал мне, на что именно надо будет обратить особенное внимание, и дал мне свою книгу, заключавшую самые последние данные о птицах Семиречья.
Впрочем, что же это такое - Семиречье, почему оно так называется, и что это за таинственные «семь рек», которых обычно даже и местные жители назвать не умеют? Семиречьем называлась Семиреченская область - административная единица, приблизительно занимавшая территорию нынешней Алма-Атинской области и северной Киргизии.
Когда русские занимали этот край, принадлежавший частью Китаю, частью Кокандскому хану, они сперва двигались с северо-востока, от Иртыша. При этом их продвижении им приходилось переходить ряд рек, а именно: Аягуз, Лепсу, Аксу, Биен, Каратал, Коксу и, наконец, Или.
Эти-то семь рек и дали название новому краю, причем первоначально Семиречьем называлась только часть его к северо-востоку от Или, а территория к юго-западу от этой речки носила название Заилийского края. Отсюда теперешнее название одного из хребтов Тян-Шаня - Заилийский Алатау. Нынешний же Джунгарский Алатау назывался тогда Семиреченским.
В этом-то самом Семиречье мне и предстояло теперь поселиться и с тех пор работать в нем вот уже 35 лет. В 1907 году город Верный, куда я должен был добираться, находился в 800 километрах от железной дороги. Эти 800 километров надо было ехать на лошадях.
Я этим воспользовался, и так как ружье и все необходимое для набивки было у меня под руками, то я в пути охотился и затем препарировал добытых птиц. Таким образом, когда мы, наконец, после девятидневной езды добрались до Верного, у меня уже было собрано десятка три шкурок.
Это было первоначальное ядро моей будущей коллекции семиреченских птиц. Среди этих трех десятков птиц большинство были новыми для меня, настолько отличалась здешняя фауна от знакомой мне до тех пор. Помню, первой птицей, особенно привлекшей мое внимание, была туркестанская трясогузка, с очень большим количеством черного на груди, шее и голове.
Этим она сразу бросалась в глаза после наших европейских трясогузок, и я поспешил застрелить ее и набить. Замечательными показались мне также желтоголовая и черноголовая трясогузки, которых я до тех пор никогда не видел.
Но особенною радостью наполнила меня добыча на станции Маймак первой горной куропатки, или по-местному - кеклика. Впоследствии я увидел, что это одна из обыкновеннейших в новом крае птиц, но тогда она мне казалась замечательной редкостью и ценнейшей добычей, и я с гордостью ее показал жене и детям.
Такою же «редкостью» оказались потом и туркестанская, и черноголовая трясогузки, но тогда я был в восторге от своих успехов. Но как же это я умудрялся собирать и даже препарировать птиц в дороге? - подумают многие. Теперь уже сравнительно мало осталось таких мест, где люди ездят «на почтовых», и очень многие и понятия не имеют о том, что это за «почтовые».
В 1907 же году, и даже гораздо позже, сам главный город Семиреченской области, Верный, как уже упомянуто, отстоял от железной дороги в 800 километрах, а до него надо было как-то добираться. Вот на этих-то самых «почтовых» до него и добирались.
Через каждые 20 - 25 километров, а иногда и больше, стояли почтовые станции, на которых жили ямщики, содержалось несколько троек лошадей, а над всем этим неограниченно царил «староста» - верховный вершитель судеб проезжающих.
Теперь езда на почтовых многим, наверно, представляется чем-то изводящим - тоской зеленой. В действительности это было далеко не так. В хорошую погоду и при хорошей дороге, например, весною, когда грязь уже высохла, а пыли еще нет, езда на лошадях имеет свою, и немалую, прелесть.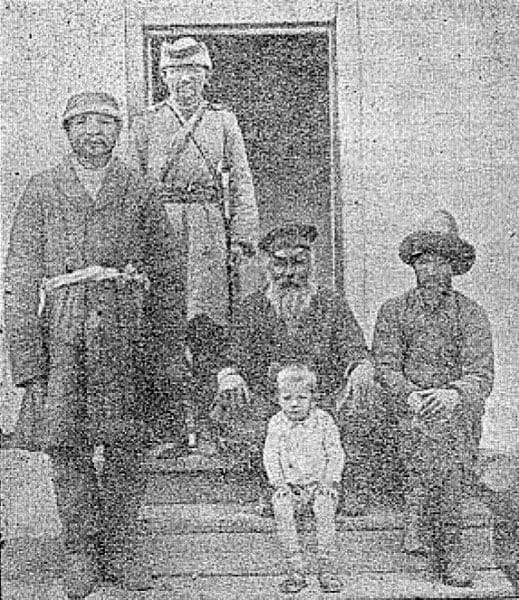
В ы не затиснуты в душный, переполненный вагон, а едете одни, на просторе и так, как вам самому хочется: быстро, медленно, сидя, лежа. Останавливаетесь тогда, когда вам вздумается, там, где вам нравится, и на столько времени, на сколько захотите.
Вся природа - к вашим услугам, и вы можете ею насладиться в полной мере и даже при желании делать наблюдения и коллектировать, а не довольствоваться видами через окно вагона, когда перед вами только мелькает что-то.
Да и само пребывание в течение нескольких суток на чистом воздухе доставляет огромное наслаждение, не говоря уже о том, что оно, конечно, много полезнее для здоровья, чем томление в душном вагоне. Я знаю случаи, когда больные люди резко поправлялись за 6 - 7 суток езды на лошадях, что вряд ли случается в поезде.
А мчаться на хороших лошадях с Курдайского или Долонского перевала, любуясь ловкостью и уверенностью, с которыми ямщик правит своей упряжкой на бесчисленных «вавилонах». (Так семиреченские казаки называют крутые повороты, характерные для горных троп и дорог), которые порой так неожиданно делает в таких местах живописная дорога!
Когда-то я не понимал того восторга, с которым Гоголь пишет о «птице-тройке». Теперь, немало поколесив на этой самой «птице-тройке», я хорошо понимаю переживания Гоголя! Но для большинства моих читателей они, конечно, так и останутся навсегда непонятными, а может быть, и странными.
Теперь ведь даже в самых глухих углах былые тройки заменены автомобилями. За время моей работы в Семиречье мне пришлось провести на станциях или в экипаже на почтовых трактах в общей сложности немало месяцев.
Не меньше 20 000 километров сделал я за это время по этим трактам, и немало во время этих поездок было собрано в пути и самых различных птиц. В первую мою поездку мне более или менее посчастливилось, и ждать лошадей на станциях почти не приходилось.
Но я нарочно останавливался на ночлег рано и выезжал довольно поздно именно для того, чтобы иметь больше времени и для охоты, и для препарирования. По приезде в Верный я продолжал начатое в дороге собирание птиц, благо в те патриархальные времена на окраине, где я поселился, можно было стрелять и в самом городе.
А вскоре по приезде я принял и свое «боевое крещение»: совершил под руководством старшего сослуживца, не скажу - экспедицию, но поездку для осмотра земель под переселение. о мною было, конечно, ружье, и тут я впервые начал по-настоящему знакомиться с великолепной и богатейшей местной природой, жизнь и изучение которой впоследствии целиком захватили меня.
Но должен сознаться, что это первое крещение долго было памятно мне. Раньше мне хоть и случалось не раз ездить верхом, но 17 километров от нашего дома до деревни Тимоха и столько же обратно были самым большим расстоянием, которое я одолевал в один день, да и то с 10 - 12-часовым отдыхом в лодке на охоте.
А тут мой руководитель решил сразу по-настоящему ввести меня в курс того, как работают в Азии. Сам он ехал на великолепном коне со стремительной иноходью и особым, очень быстрым шагом («джол-джурга» - по-местному) и сидел спокойно, как в кресле.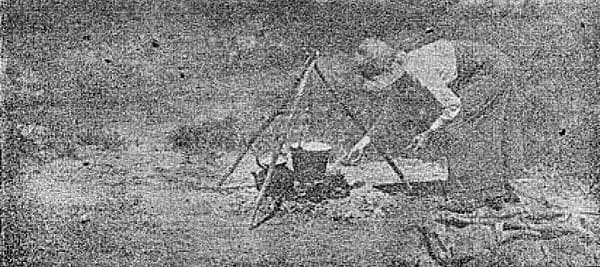
Мне же подсунул рядовую захудалую лошаденку и проманежил меня на ней с раннего утра до самого вечера. Мы сделали за день 55 километров и только один раз слезали с лошади минут на пятнадцать. Когда я, наконец, стал вечером на землю, то не мог разогнуть колен и долго простоял на месте, прежде чем в состоянии был сделать хоть шаг.
Впрочем, никаких дальнейших последствий не было, а на следующий день мой ментор нашел мне и лошадь получше, и ехал более медленным темпом, и сделали мы с ним уже гораздо меньший путь. Оказалось, что все пакости первого дня были устроены им нарочно, чтобы сразу показать мне оборотную сторону медали.
А еще за два-три следующих дня я уже действительно освоился с местными условиями и затем быстро привык к верховой езде. Впоследствии же бывали случаи, когда я делал верхом уже не 55, а 70 и даже 90 километров и уставал меньше, чем в памятный мне первый день.
Следующая моя служебная поездка была уже настоящей маленькой экспедицией, хотя и оборудованной более чем скромно, вполне по-спартански. Я поехал вдвоем с проводником, стариком казахом, причем с нами были только вьючные сумы с хлебом, чаем и сахаром, мое летнее пальто, сачок для насекомых, охотничья сумка с морилкой, банка со спиртом для ящериц и ружье.
На ночь я расстилал прямо на земле пальто, казах свой халат, и ночлег был готов. Но в эту поездку мне впервые пришлось попасть в настоящие пески, и она осталась для меня еще более памятной, чем мой первый дебют верхом.
Впоследствии я мало-помалу привык к пребыванию среди дикой, нетронутой природы. Но тогда я был знаком только с жизнью в более или менее культурной обстановке, и ощущение, что ты только вдвоем с бессильным стариком ночуешь под открытый небом, где-то вдали от всяких других людей и населенные пунктов, в настоящей пустыне, рядом с какими-то неведомыми животными, производило неизгладимое впечатление.
Позже такие же яркие переживания я испытывал во время своей первой экспедиции на Балхаш в 1908 году, когда со мною тоже был только один спутник, и уже в меньшей степени в 1912 году - в экспедиции в дебри Тянь-Шаня. Здесь впечатление было не таким сильным, благодаря тому, что я был не вдвоем, а руководил целой многолюдной экспедицией.
В какой бы дикой глуши мы ни останавливались, она сразу превращалась как бы в населенный пункт. В эту свою первую поездку я начал знакомиться с совершенно неведомым мне до того животным миром песков. А мир этот - совсем особенный, приспособленный к жизни на безводной, жестоко накаляемой солнцем сыпучей поверхности с редкой, такой же своеобразной растительностью.
Тут меня поразили странные, необычайно длинноногие песчаные жуки, жуки-шарокаты, особенные, бледно-желтоватые, почти бесцветные, стремительно носящиеся туда и сюда по песку муравьи, главный же образом - песчаные ящерицы.
Большая неуклюжая ушастая круглоголовка стоит где-нибудь на вершине барханчика, высоко поднявшись на ногах и загнув кверху хвост, который она все время то скручивает, то раскручивает, как пружинку. Если я подходил к ней, она принимала угрожающую позу, разевала рот, выпускала и расправляла околоушные складки кожи, которые при этом принимали яркую окраску, и не только делала вид, что хочет броситься на меня, но и действительно с шипением подпрыгивала по направленно ко мне.
При этом она имела такой, буквально страшный, вид, что впоследствии мне случалось видеть, как ее пугались и в страхе отскакивали в сторону люди и даже наша большая собака; последняя, ловившая и поедавшая змей и разных других ящериц, несколько раз пыталась завладеть и ушастой круглоголовкой, но при прыжке ящерицы каждый раз отступала перед своим крошечным, но, очевидно, внушавшим ей ужас врагом.
Собака, в конце концов, признала себя побежденной и позорно ретировалась. Если же круглоголовка решала не защищаться, а скрыться, она делала на месте несколько незаметных боковых движений и мгновенно исчезала из глаз, погружаясь в песок, как в воду.
Казахи называют эту ящерицу «батпат», что значит «тони» (ящерица как бы тонет в песке). Другая песчаная ящерица, сетчатая скаптейра, останавливала на себе внимание своей необыкновенно совершенной защитной окраской, изяществом и быстротой движений.
Неподвижно сидящую скаптейру заметить на песке почти невозможно. Однако по части изящества неподвижности ее далеко оставляет за собой скаптейра полосатая. Эта прелестная, тоненькая, необыкновенно стройная маленькая ящерица до того ловка и подвижна, а движения ее так стремительны и неожиданны, что, не видевши, трудно составить себе о них понятие.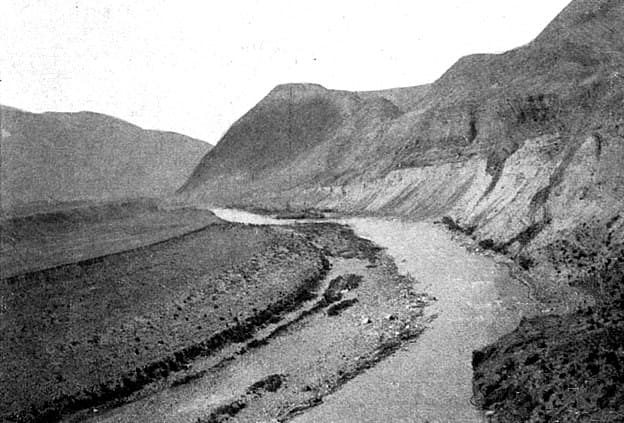
Мне случалось, соблюдая величайшую осторожность, приблизиться к полосатой скаптейре вплотную и поднести к ней руку на расстояние 25 сантиметров. И когда я затем мгновенно опускал руку, чтобы схватить ящерицу, обычно оказывалось, что под ладонью пусто, а скаптейра исчезла, причем я даже понятия не имел, в каком направлении она умчалась.
В мою первою встречу с полосатой скаптейрой мне так и не удалось поймать ни одной, и мне оставалось только любоваться и восхищаться этими удаленькими молниями песков. Но впоследствии я научился ловить и их, хотя большого места в моей коллекции они все-таки не заняли - настолько труднее было их ловить, чем всех других наших ящериц.
Первые пойманные мною песчаные ящерицы - ушастая и крючкохвостая круглоголовки и сетчатая скаптейра - так заинтересовали меня, что с этого момента я решил начать как следует собирать пресмыкающихся, на которых до того времени я внимания не обращал.
Впрочем, и обращать-то было не на что, так как в тех местах, где мне приходилось жить до того времени, только и было пресмыкающихся, что гадюка, уж, да живородящая и прыткая ящерицы и веретеница. А теперь вслед за первыми новыми знакомыми мне начали попадаться один за другим другие интереснейшие представители этого класса: степной удав, стрела-змея, такырная круглоголовка, сцинковый геккон, алайский аблефар и разные другие.
Степной удав - толстое, неуклюжее, малоподвижное создание, очень короткое по сравнению с толщиною и замечательное тем, что у него оба конца тела так похожи один на другой, что на расстоянии не всегда сразу разберешь, где у этой змеи хвост и где - голова.
Меня некоторые даже уверяли, что в Семиречье водится змея с двумя головами: одна голова на одном конце тела, а другая - на другом, и клялись, что они видели ее собственными глазами. Степной удав, если его потревожить и ему некуда уйти, иногда прибегает к неожиданному и совершенно необычайному приему самозащиты: он вдруг придает своему телу странную форму - раздвигает широко в стороны ребра, так что тело его становится посредине совершенно плоским и очень широким.
В таком виде удав кажется гораздо больше, чем он есть в действительности, и всей своей фигурой становится похожим на некоторых очень ядовитых африканских гадюк. Возможно, что в Африке это сходство помогает ему спасаться от врагов, знающих и боящихся этих гадюк.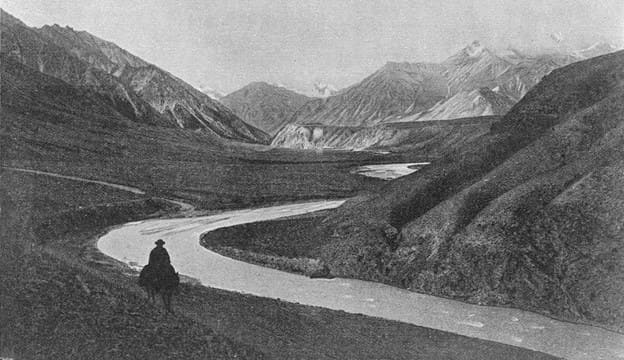
Когда я первый раз увидел степного удава в таком преображенном виде, то даже не узнал его: мне показалось, что это какая-то совершенно новая, еще неизвестная мне змея, притом что-то весьма подозрительная с виду; хотя я к тому времени уже прекрасно знал и удава, да и всех остальных наших змей, и все они много раз перебывали у меня в руках.
Неповоротливый и медлительный на поверхности земли, удав очень ловко и даже довольно быстро передвигается в толще песка, куда он мгновенно уходит, как в воду. «Нырнув» в песок, удав двигается там совершенно свободно, легко меняя направление и неожиданно делая крутые повороты.
Пока он не ушел глубоко, за всеми его движениями легко можно следить по колебаниям поверхности песка. Для более успешной ловли добычи степной удав и подстерегает ее, совсем зарывшись в песок и оставив на поверхности только глаза и крошечный кусочек головы.
Удивительна при этом необычайная быстрота, с которой бросается на добычу эта, такая медлительная обычно, змея: от нее не спасаются даже быстроногие песчаные тушканчики, если им случится неосторожно приблизиться к предательской засаде.
Полную противоположность этому ленивому увальню представляет стрела-змея. Длинная, тоненькая, с маленькой головкой; изящная по фигуре и окраске, она отличается очень большой быстротой движений. Спасающуюся бегством крупную стрелу-змею на ровном месте с трудом может догнать даже и быстро бегающий человек.
Застигнутая врасплох, стрела часто взбирается на куст и делает попытку защищаться, вернее - напугать человека угрожающими движениями. Она обвивается вокруг ветвей задней половиной тела, а переднюю резкими порывистыми движениями выбрасывает вперед по направлению к врагу, как бы собираясь прыгнуть на него.
Мне никогда не случалось видеть, чтобы стрела-змея действительно прыгала. Но думаю, что при ее ловкости, легкости, подвижности и при стремительности описанных движений она и действительно может сделать прыжок и даже, может быть, довольно большой, если во время такого выбрасывания вперед половины тела змея сорвется с ветки или нарочно отпустит ее.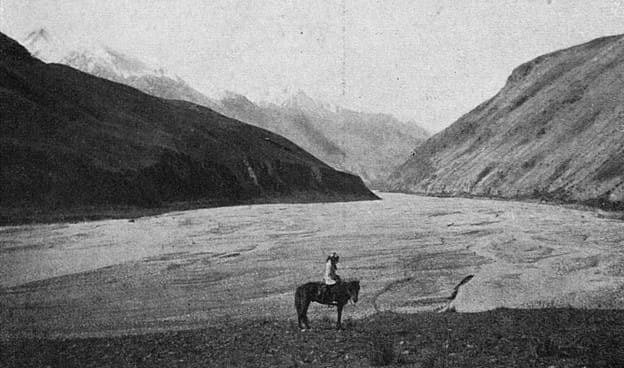
Во всяком случае от этого движения получается полное впечатление, что змея и в самом деле бросается на вас. А остальное дополнят воображение и свойственный большинству людей страх перед змеями. Казахи страшно боятся стрелки, уверяя, что она с быстротой молнии бросается на человека, пробивает его насквозь, как стрелой, и в этот момент еще успевает укусить его, причем укус ее якобы смертелен.
Отсюда и ее казахское название «ок-джилан», что значит стрела-змея. В действительности эта змея, конечно, никого не пробивает, да и укус ее для человека совершенно безвреден: она при мне кусала людей, и на месте укуса оставалась только небольшая краснота, как от любого раздражения кожи ничтожными уколами.
Такырная круглоголовка - пребезобразное существо с круглой головой, широким, раздутым в стороны плоским телом, напоминающим тело жабы, и довольно коротким, быстро утончающимся к концу хвостом. Кроме обычных для ящериц мелких чешуек, она покрыта еще более крупными, острыми бугорками.
Неповоротливая, довольно медленно бегающая, такырная круглоголовка является очень легкой добычей. В этом отношении, как и по части стройности и изящества, она представляет полную противоположность полосатой скаптейре. Во всяких сборах пресмыкающихся она обыкновенно составляет весьма солидный процент.
Но у нее есть другое средство защиты, хотя и не такое верное, как быстрота скаптейры: очень совершенная покровительственная окраска. Такырная круглоголовка встречается в довольно разнообразных по природе полупустынных и даже пустынных местностях: и на такырах, но не гладких, как пол, а усыпанных мелкими обломками твердого верхнего слоя растрескавшейся от жары почвы, и в галечниковой полынной степи, и на щебневатых, почти лишенных растительности местах.
Все эти разные типы местности очень различаются и по общей окраске своей поверхности - от почти белого такыра до нередко почти черного сланцевого щебня, иногда сплошь покрывающего почву каменистой пустыни. Как известно, все пресмыкающееся обладают свойством приспособляться по своей окраске к окружающей обстановке, но у нас нет ни одной змеи и ящерицы, которая сравнялась бы в этом отношении с такырной круглоголовкой.
Даже в небольшой коллекции этих ящериц, но собранных в разных местах, всегда найдутся экземпляры настолько непохожие друг на друга, что они кажутся совсем разными ящерицами: одни - однообразно бледно-серые, другие - ярко-пестрые с белыми, красноватыми, черно-бурыми и даже голубыми пятнами на сером фоне, третьи - почти черные.
Такырная круглоголовка, подобно ушастой, имеет очень забавный вид, когда она взберется на какой-нибудь большой булыжник и сидит на нем, подняв голову, прекомично вертя ею из стороны в сторону, как-то бочком поглядывая на вас и закрутив кверху хвост.
Особенно забавен ее вид, если вы застанете ее за пиршеством и она держит во рту большую кобылку, которую только что поймала. Фигурка получается до того смешная, что на нее трудно смотреть без улыбки. Сцинковый геккон - странное создание с большой головой, приспособленными к ночной жизни огромными глазами и похожей на рыбью чешуей, покрывающей его тело наподобие черепицы.
Бледный, почти телесного цвета с темный рисунком, геккон этот ведет строго ночной образ жизни, день проводя в норах. Тело его отличается необыкновенной нежностью: достаточно малейшего неосторожного прикосновения чем-нибудь, например, веточкой растения при ловле ящерицы, и чешуя его уже оказывается поврежденной.
Хвост же ломается даже еще легче, чем у серого геккона, у которого он тоже отличается крайней ломкостью. Поэтому очень трудно бывает получить для коллекции хороший, совсем неповрежденный экземпляр этой ящерицы, если не знать или забыть при ловле эту ее особенность.
Ловить сцинкового геккона приходится ночью, с фонарем. Застигнутый неожиданно лучом света, он останавливается неподвижно, поднявшись на ногах и вытянув кверху хвост, который он держит при этом прямым, как палка, а не закрученным, как у круглоголовки.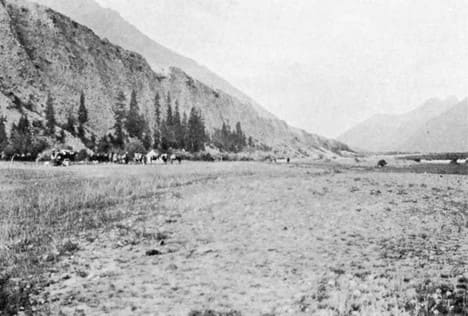
Так, замерев на месте, он стоит несколько мгновений, так что схватить его не трудно, тем более, что и бегает он очень медленно. Скорее, пожалуй, даже не бегает, а ходит… Все ящерицы и змеи, о которых я здесь рассказал, живут на низменности и высоко в горы не поднимаются.
В семиреченских горах змей и ящериц вообще несравненно меньше, чем внизу. Но зато есть среди них и такие, которые у нас встречаются только в горах, например, алайский аблефар. Все здешние ящерицы, живущие внизу, откладывают яйца, из которых без всякого участия матери, под влиянием одного лишь солнечного тепла, вылупляются ящерички.
Но как быть алайскому аблефару и глазчатой ящурке, которые живут только в горах, причем забираются даже очень высоко? Ведь на их родине климат такой, что настоящего тепла они никогда и не видят, так что ни о какой помощи солнца и думать нечего.
Чуть набегут тучи, а они здесь иногда набегают поминутно - как становится совсем холодно; холодный дождь сплошь и рядом переходит в град или снег, мгновенно покрывающие почву слоем в несколько сантиметров. В разгар лета, в июле месяце, нередко поднимается снежный буран с сильнейшим ветром, пронизывающим вас насквозь.
В ясную погоду днем, правда, иногда бывает почти жарко, но зато в ясную ночь вода замерзает в лужах, а в своей палатке вы утром находите кусок льда вместо чая в стакане или чайнике; земля же промерзает настолько основательно, что утром не так скоро и оттаивает.
Какое уж тут развитие яйца вне тела матери, когда оно ежедневно и ежеминутно рискует замерзнут. Не может быть, чтобы ящерицы тут размножались яйцами. Меня этот вопрос заинтересовал, и я занялся его исследованием. Оказалось, что и глазчатая ящурка и алайский аблефар яиц, действительно, вовсе не кладут, а у них родятся живые детеныши.
Так постепенно я все больше и больше знакомился с пресмыкающимися и заинтересовывался ими; коллекция моя все росла и росла. В конце концов я изучил пресмыкающихся достаточно хорошо, и в результате появилась моя книжка «Пресмыкающиеся Семиречья».
В горах мне пришлось встретиться еще с одним весьма замечательным животным. После того как я поселился в Копале и стало известно, что я интересуюсь местным животным миром, мне разные люди стали рассказывать о какой-то «саламандре», которая будто бы водится в тамошних горах.
Уверяли, что китайцы очень ценят ее в своей медицине, что в некоторых местах ее специально ловят для продажи в Китай и что порошок из высушенных саламандр, будто бы, действительно хорошо способствует срастанию переломов.
Из местных казахов тоже многие ее знали; она имела даже казахское название «аякты балык», что значит «рыба с ногами». Раз около казахской юрты я увидел на веревке какую-то скрюченную черную сухую палочку, и мне сказали, что это и есть «аякты балык», который сушится на лекарство.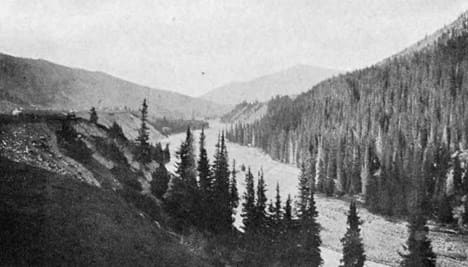
Теперь уже мне надо было во что бы то ни стало увидеть живую «саламандру» на воле и посмотреть самому, что это за штука. Что она действительно существует, а не является фантазией, как легендарная птица «феникс» или «гамаюн - птица вещая», я теперь не сомневался, так как сам видел ее, хотя и в форме сухого консерва.
Расспросив, где легче всего найти интересного зверя, я добрался до перевала Юган-Тас и там в ключах действительно нашел «саламандру». Оказалось, что это особенный, очень крупный горный тритон, известный в науке под названием семиреченского тритона.
Он гораздо крупнее наших обыкновенных тритонов, но не имеет яркой брачной окраски (у самцов), а окрашен в скромные серовато-бурые тона. На Юган-Тасе я нашел не только много взрослых тритонов, но и их крошечных, только что вылупившихся личинок и их икру.
Ни личинки, ни икра до тех пор не были известны. Икра эта похожа на лягушечью, но откладывается в виде длинных гроздей, вроде ледяных сосулек, и замечательна тем, что прикрепляют ее тритоны к камням в самых быстрых местах горных ручьев, где ее сильным течением непрерывно треплет и бьет о соседние острые камни.
Но нежные яички нисколько не страдают от такого варварского обращения с ними, благодаря тому, что заключены в общий мешок, который хотя и сделан из прозрачной слизи, но настолько прочен, что вполне предохраняет их от повреждений.
Свои наблюдения над тритоном, который и до сих пор не найден нигде, кроме одного из хребтов Тян-Шаня - Джунгарского Алатау, - я описал в особой, посвященной ему статье. В первый год моей жизни в Семиречье мне ездить приходилось еще довольно мало, особенно пока я жил в Верном, т. е. до осени 1907 года.
Поэтому и птицам я не мог уделять достаточно внимания: город, как-никак, место для занятия птицами не особенно подходящее. И тут я впервые обратил свое внимание на насекомых, которых даже в детстве никогда не собирал, так как всегда был занят птицами и к насекомым относился с пренебрежением.
Великолепные теплые, но не жаркие и не душные, как в Севастополе, верненские летние ночи, когда на лампу на террасе летят разнообразнейшие насекомые, толкнули меня на собирание бабочек. Случалось, что я просиживал целые ночи напролет, почти до восхода солнца, причем бабочки нередко летели в таком множестве, что я едва успевал справляться с обильной добычей и рассаживать ее по морилкам.
К концу лета зоологический музей Академии Наук получил большую коллекцию ночных бабочек Верного. Днем я занимался другим: в камышинках, покрывавших глинобитный забор в саду брата Вячеслава, где я жил, устраивали свои гнезда разнообразные осы-охотники.
Тут же дежурили, подстерегая удобный момент для своих бандитских налетов, еще более разнообразные паразитные осы. Те и другие давали мне большую добычу, притом уже не как обычный коллекционный материал по фауне насекомых, а интереснейший материал по их биологии.
Материал из камышинок я дополняя разным другим, разыскивая всевозможные гнезда насекомых, коконы и т. д. Здесь, как и всегда, я старался использовать каждый момент и всякую обстановку, чтобы пополнить свою биологическую коллекцию.
XI. Копал.
Так прошло лето 1907 года, а осенью я переехал на жительство в город Копал. Тогда это был крохотный уездный городишко, насчитывавший вместе с прилегающей казачьей станицей едва 3600 жителей. Мое появление в Копале ознаменовалось забавным эпизодом, о котором я, впрочем, узнал лишь впоследствии.
В первые же дни после приезда я отправился бродить по прилегающей к городу степи с морилками и энтомологическим сачком. Зашел и на расположенное около города татарское кладбище, где росла высокая трава, не стравленная скотом, как в степи.
И вот к уездному начальнику помчался джигит с донесением, что около города и по кладбищу бродит какой-то, никому не известный, человек, чем-то размахивает над могилами, вынимает из сумки какие-то банки и что-то с ними делает.
«Однако» дело явно подозрительное и вряд ли не опасное для государства, а потому не прикажет ли «таксыр» арестовать подозрительного осквернителя могил? На мое счастье, уездным начальником в Копале в мое время был Н. В. Лебедев, одни из умнейших и культурнейших людей, каких я только знал.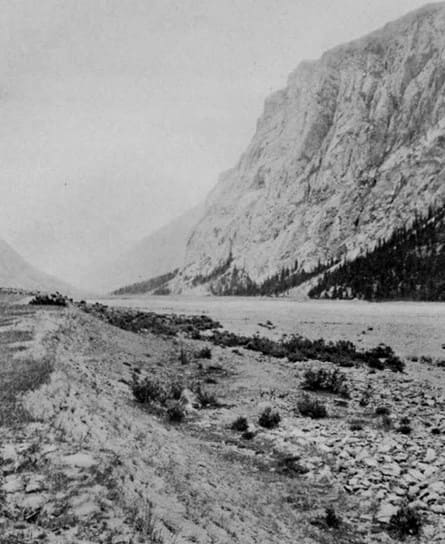
Ему было, вероятно, уже известно о моем приезде в Копал, и он, конечно, сразу понял в чем дело, а потому и разочаровал не в меру ретивого джигита. Впоследствии он сам мне и рассказал эту курьезную историю.
Надо, впрочем, добавить, что в то время от Копала до ближайшей железнодорожной станции было около 1200 километров.
И не так уж удивительно, что там неграмотные казахи-джигиты не были знакомы с энтомологическими сачками, морилками и с тем, как собирают насекомых. Копал был замечателен, да, впрочем, совершенно так же замечателен и теперь, своим великолепным ровным климатом, с вечно солнечными днями зимою и изумительной водой бесчисленных ключей, пробивающихся всюду в городе и в станице.
Такой великолепной воды я нигде больше не видел. В Копале даже самые осторожные и мнительные люди забывали обязательное в Средней Азии правило: никогда не пить сырой воды. Интересно, что в Копале не только люди, но и лошади избаловались своей ключевой водой: я не раз видел, как лошади, которых приводили на водопой на прекрасную горную речку, протекающую в городе, подходили к реке, нюхали воду, а затем с пренебрежением отворачивались и шли пить на тут же расположенный ключ.
В этом городишке я прожил пять лет и за это время совершил много поездок и настоящих больших экспедиций. Три раза побывал на Балхаше, пересек поперек пустыню между реками Или и Караталом. Я познакомился с настоящими, широко, на сотни километров, раскинувшимися песками; полынной степью с разнообразнейшими солончаками; странным, ни на какой другой лес не похожим саксауловым лесом; бесчисленными, весьма разнообразными по своей природе озерами и озерками Прибалхашья; древесными зарослями по берегам равнинных рек.
Познакомился и с полною противоположностью всем этим местам - природой гор. Увидел тяншанские горные леса - яблоневые и еловые; черноземные луга с растительностью, в которой скрывается не только пешеход, но иногда и всадник с лошадью; оригинальные заросли арчи (Горный можжевельник) в виде подушек или лепешек, лепящиеся на склонах выше елового леса; наконец, великолепные альпийские луга, покрытые ярким, пестрым ковром цветов, ледники и величественные мертвые громады скал у вершин хребтов.
Край, где достаточно нескольких часов верховой езды для того, чтобы попасть из жаркой равнины с виноградниками и рисовыми полями в суровую обстановку горного ущелья или плато, где среди жаркого июльского дня вас неожиданно захватывает снежный буран, не может не иметь разнообразнейшего животного мира.
И в самом деле: вместо каких-нибудь 50 видов млекопитающих и 250 видов птиц, которые я мог бы найти в Финляндии или в Полесье, в Семиречье живет около 120 видов млекопитающих и больше 400 видов птиц. Для меня тут одних только незнакомых до того птиц нужно было считать десятками, так что и думать нечего перечислять их здесь всех.
Поэтому я расскажу только о немногих из них - о тех, которые почему-нибудь особенно заинтересовали меня при встрече или вообще интересны своими повадками и биологией. Первое место среди птиц я отведу саксаульной сойке.
До моего приезда в Семиречье ее никто так далеко к северу не находил, и считалось, что она у нас водится только в Туркменистане. Между тем, один мой знакомый, узнав, что я занимаюсь птицами, начал допытываться у меня, что это за странную птицу он видел в Прибалхашских песках: выскочит из-за бархана, посмотрит на людей и затем не улетает, а пускается удирать бегом; при этом бежит так быстро, что угнаться за ней невозможно, и мгновенно скрывается из глаз.
Все это подходило только к саксаульной сойке, а когда он описал очень точно и наружность птицы, я уже не сомневался, что это именно она. Однако, когда я рассказал об этом М. А. Мензбиру, он ответил, что этого не может быть, так как, если бы сойка водилась в Семиречье, ее давно бы нашли там и об этом было бы известно, причем добавил, что он поверит только тогда, когда увидит добытый экземпляр.
Хотя я вполне доверял своему знакомому, но надо было доказать, что я прав, т. е. добыть птицу, и я решил во что бы то ни стало ее добыть. Долго мне это не удавалось. Я старательно искал сойку во время своих экспедиций на Балхаш в 1908 и 1909 годах, но безрезультатно.
Тогда, решив, что раз она называется саксаульной сойкой, то должна жить в настоящем густом саксауле, какой мне до тех пор еще нигде не попадался, я осенью 1910 года совершил специально с целью поисков таинственной птицы целую экспедицию в великолепные саксаульники между реками Или и Караталом.
Местами саксауловый лес здесь был настолько густ и так завален валежником, что через него почти невозможно было пробраться даже пешком. И таким лесом мы проехали многие десятки километров. Мы с моим возничим, стариком Скударновым, все глаза проглядели, высматривая сойку, но она, как заколдованная, не давалась нам.
Так впустую и проделал я на телеге около 1000 километров. Конечно, я привез разную другую добычу, сделал много наблюдений и посмотрел замечательные, никогда мною не виданные саксауловые леса. Но все это было не то. Мне нужна была саксаульная сойка.
И я должен добыть ее, раз я уверен, что она где-то тут есть. В 1911 году я опять ездил на Балхаш, но по старому пути, вдоль Каратала, где никакой надежды найти сойку не было. В 1912 году странствовал в горных дебрях Тян-Шаня, и только в 1913 году мне представилась, наконец, возможность попасть в те места Прибалхашья, где встречал свою загадочную птицу мой знакомый.
Неужели я не найду ее и там? В эту поездку я спустился вдоль реки Или до Балхаша, проехал его берегом до устья Каратала к поднялся вверх по новому для меня, левому берегу этой реки. На этот раз со мной был препаратор Садырбек, с которым мы еще встретимся и лучше познакомимся.
Он сразу заразился от меня стремлением найти сойку и только и думал о том, как бы именно ему раздобыть ее первому. Садырбек не пропускал ни одного встречного казаха, чтобы не расспросить его о сойке, которую он уже хорошо представляя себе по моему описанию, и потому мог сам разузнавать о ней у других.
Но… проходил день за днем, мы двигались все дальше и дальше, проезжая самые разнообразные по своей природе местности. Доехали до Балхаша, добрались, наконец, до Корс-Баканаса с его огромными, непролазными зарослями крупного саксаула, которые мы с Садырбеком обшарили самым тщательным образом.
А сойки все нет и следа. Моим настроением заразились теперь уже все участники экспедиции - казахи. Всю дорогу они старательнейшим образом высматривали по сторонам, сами допытывались у каждого встречного местного жителя, но никто ничего не мог им сказать: никакой подходящей птицы никто из них не знал.
Но вот, не помню уже после скольких дней пути, один старик казах все на тот же вечный вопрос вдруг ответил, что он птицу знает и находил ее гнезда. Рассказал, как гнездо устроено, где помещается, сообщил даже казахское название птицы - «джурга-тургай» (птица-иноходец) и добавил, что мы ее непременно встретим, но только дальше.
Эта первая удача нас всех очень оживила, и после выезда с этой стоянки общее внимание и напряжение удесятерились. Но наше терпение еще должно было подвергаться испытанию. А в один из следующих дней нас, вдобавок, постигла очень серьезная экспедиционная неудача: колодезь, до которого, по словам проводника, мы уже давно должны были доехать, все не попадался.
Проводник, замечательно добросовестный, серьезный, дельный и необыкновенно симпатичный пожилой казах, Омарбек, сам начал волноваться и уехал одни вперед в поисках затерявшегося колодца. Мы все двигались медленно, в подавленном состоянии: проклятая сойка никак не дается в руки, а тут еще ночевка в пустыне без воды.
Но вот на кустике саксаула, среди песков, я замечаю уже пустое, покинутое птенцами, гнездо с крышей, как у гнезда сороки: как раз такими описывал гнезда сойки наш старик-казах. Общее настроение на мгновение опять сразу поднимается, а Садырбек с джигитом Уразгулом немедленно отделяются от каравана и устремляются на поиски хозяев гнезда.
Удручающая жара, тишина, кругом мертво, и наш караван, в котором теперь осталась ровно половина участников, едва тащится, так как мы проехали гораздо больше, чем следовало, и лошади страшно устали. Все молчат, и я чувствую, что настроение опять упало и что каждый думает теперь уже только о куда-то исчезнувшем колодце и о предстоящем печальном ночлеге, без чая для нас и без воды для лошадей.
Но вот тягостное молчание прерывают какие-то дикие крики, и мы видим мчащихся карьером Садырбека и Уразгула, причем первый из них что-то держит на ладони. С сияющими лицами они подскакали к нам, и Садырбек с гордостью протянул мне… саксаульную сойку!
Все-таки именно он нашел и убил первую! Надо было видеть его восторг и то оживление, которое мгновенно воцарилось во всем караване! Ну, какое, казалось бы, дело простым неграмотным казахам до какой-то там саксаульной сойки, которую они видят в первый и, вероятно, в последний раз в жизни?
А между тем они стали неузнаваемы. Куда и усталость девалась. Мгновенно был забыт тяжелый утомительный переход, забыт даже пропавший колодезь, и началась оживленная радостная беседа. Казалось, даже лошади подбодрились и прибавили шагу, заразившись настроением седоков (а вернее, усерднее подгоняемые ими).
А тут, в довершение удачи и радости, показался вдали Омарбек, по лицу которого мы, и не спрашивая, узнали, что он нашел-таки воду. Вечером на стоянке в палатке рабочих царило такое веселье, как будто мы нашли невестъ какое сокровище, и еще долго потом, просыпаясь ночью, я слышал веселые голоса, доносившиеся из соседней палатки.
После этого мы с Садырбеком добыли еще несколько соек, так что на этот раз цель моя была, наконец, достигнута, и я по возвращении домой мог послать Мензбиру нужные ему «документы». Кстати, я тут лишний раз убедился в том, что никогда не следует слишком доверять названиям животных, и понял, почему я так долго искал сойку зря: саксаульная сойка совершенно не встречается в саксауловом лесу, а живет только в песках.
Я уже рассказал, в какой восторг привел меня первый убитый мною на Маймаке кеклик. С этой милой, напоминающей миниатюрную курочку птицей в прежнее время неизбежно знакомился каждый, ехавший в Семиречье, еще раньше, чем он успевал добраться до Верного.
Если у него выходила неудача с лошадьми на Маймаке, то, разгоняя свое негодование и злобу на старосту прогулкой по соседним горкам, он уже обыкновенно здесь встречал первых кекликов. Если же Маймак проходил благополучно и он без задержки ехал дальше, то на Курдайском перевале кеклики приветствовали его уже обязательно.
Где-нибудь около самой дороги раздавались характерные звуки: «кек-лик», «кек-лик», «кек-лик», и, взглянув по направлению голосов, путник замечал на ближайших камнях стайку курочек, которые не спеша поднимались по склону, поминутно оглядываясь на экипаж и останавливаясь.
А иногда даже и вообще не думали удирать, а просто стояли и смотрели на вас, ожидая, пока вы уберетесь и освободите место на дороге. Редко видя со стороны проезжающих по тракту какие-нибудь неприятности для себя, кеклики настолько привыкли к ним, что почти совсем перестали их бояться.
Такие встречи ждали путника всюду в тех местах, где почтовый тракт проходил по скалистым перевалам: на Курдае, Абакумовском перевале и т. д. Милые фигурки кекликов, их доверчивость, явное любопытство, с которым они вас рассматривают, привлекали к ним симпатию каждого, кроме тех, кто имел при себе ружье.
От таких проезжающих кекликам иногда приходилось плохо, и они дорого платили за свою доверчивость. Но и эти люди не могли в те времена научить их бояться человека - так мало было вооруженных проезжающих, и так много было всюду кекликов.
Впрочем, эти милые птички выказывали доверчивость к человеку и не только на проезжих дорогах, где они к нему поневоле привыкали, постоянно выбегая из камней поискать просыпанного овса или порыться в конском навозе.
Мне случалось видеть их в пяти шагах от себя в горных ущельях в стороне от всяких дорог, но они и тут не думали убегать, а преспокойно занимались своим делом на виду у меня. Встревоженные или испуганные чем-нибудь, кеклики обычно не взлетают, а начинают быстро бежать по склону кверху, ловко перепрыгивая с камня на камень, и тогда угнаться за ними бывает нелегко.
Очень интересная птичка живет на горных речках и даже ручьях. Кургузенькая, кругленькая, живая и подвижная, она всегда держится около самой воды и даже на камнях среди потока. Это - оляпка. Их в Семиречье есть две: одна вся сплошь темно-коричневая, другая с белым брюшком.
Темнобрюхая встречается гораздо реже, наблюдать ее труднее, и я расскажу здесь кое-что о белобрюхой, которая живет ниже и довольно обыкновенна у нас. Эта странная птичка по своим привычкам и образу жизни не похожа ни на одну из других наших птиц.
Это не водяная птица, как утки, гуси, поганки и другие, и вы лишь случайно, в виде редкого исключенья, можете увидеть плывущую оляпку. Но ее никак нельзя назвать и наземной птицей, так как пищу свою она добывает исключительно в воде, и не только вдали от речки или ручья, но даже в пяти шагах от берега вы оляпки никогда не увидите.
Когда она отдыхает, то всегда сидит где-нибудь на камне у самой воды, нередко на каменном валуне, лежащем среди стремительного потока, поминутно омываемой набегающей волною и скрытом мириадами брызг. Сырости оляпка боится настолько мало, что даже гнездо свое устраивает нередко в таких местах, где ее яйца и птенчики беспрестанно обдаются брызгами воды; летает оляпка довольно плохо, но умеет замечательно ловко лавировать, следуя всем причудливым и неожиданным изгибам ручья.
На лету она всегда держится над водою, никогда не отклоняясь в сторону берега, и чаще всего летит, держась над самой поверхностью воды. Мне неоднократно случалось видеть, как эта странная птичка не трудится подняться повыше даже тогда, когда ее путь вдруг преграждает особенно сильно бушующая на камнях вода: не останавливая полета, она пронизывает струи потока и летит себе дальше.
Иногда только удивляешься, как ее не сбивает и не уносит бушующий поток. Впрочем, унести ее он вряд ли и может, так как к воде она приспособлена даже лучше, чем любая водяная птица. ляпка не только умеет плавать и нырять, не боясь самого стремительного течения, но и отправляется гулять по дну речки, чего не делают другие птицы.
Если вам удастся подольше понаблюдать оляпку где-нибудь в подходящем месте, т. е. где течение не особенно быстро, то вы увидите замечательную картину. Оляпка ходит по берегу, перепрыгивает или перепархивает с камня на камень и собирает с камней или под ними всякую живность, то просто схватывая ее клювом со дна в мелком месте, то опуская в воду головку (там, где поглубже).
Но вот оляпке надоело охотиться на берегу, или добычи там оказалось мало, и она, ни на мгновение не замедляя движения, спокойно входит в воду, продолжая заниматься охотой, погружается все глубже и глубже и, наконец, скрывается совсем под поверхностью, отправляясь экскурсировать уже по дну ручья.
Довольно долго вы ее не видите совсем, а затем вдруг замечаете, как она преспокойно выходит из воды уже на другом берегу. Остающиеся на зиму птички живут на быстрых, незамерзающих ручьях или ключах и, по-видимому, прекрасно себя чувствуют и в это время.
В ясный солнечный, хотя и морозный день вы можете увидеть оляпку сидящей где-нибудь на камне среди потока, поворачивающейся то туда, то сюда, поминутно приседающей и вдруг начинающей превесело распевать свою песенку, чего не делают зимою никакие другие наши птицы.
Заметив что-нибудь заманчивое, она вдруг прекращает песенку и бросается в воду, чтобы схватить намеченную добычу, а затем, как ни в чем не бывало, продолжать прерванное пение. Тут и смотреть-то жутко, как она на морозе погружается в ледяную воду, а ей это, очевидно, нипочем.
Манеру оляпки приседать очень рано приобретают и молодые птички. Мне случалось находить только что выбравшихся из гнезда, но еще не летавших птенцов оляпки. Заметив меня, они прятались в какой-нибудь выемке отвесного берега и там притаивались, но при этом все время потихоньку приседали, как на пружинах.
Можно было бы еще о многих птицах рассказать много интересного, но так мы забрались бы слишком далеко, и книга эта никогда не кончилась бы. Поэтому я расскажу еще только об одном интересном зверьке - красной пищухе, или сеноставце.
Большая часть мелких зверьков выходит из своих убежищ только ночью, и потому изучать их жизнь трудно. Дневной образ жизни у нас ведут только сурки, суслики, большая песчанка да сеноставец. За сусликами и песчанками надо ехать далеко в степь и пески, сурки - слишком осторожны, и для наблюдений за ними нужно очень большое терпение и бинокль.
Сеноставец же живет совсем недалеко даже от самой столицы Казахстана, например, в районе Алматинского озера, куда алматинцы так часто совершают экскурсии. Людей он боится очень мало, подпускает близко, и при самом небольшом терпении за ним легко можно понаблюдать.
К тому же живет он только в каменных осыпях, где его не скрывают ни кусты, ни трава, и потому всегда бывает весь на виду. Сядьте поудобнее, подождите немного, и вы скоро увидите небольшого рыже-серого кругленького, пушистого, совсем бесхвостого, но с большими круглыми ушами зверька, который вдруг выскочил неизвестно откуда, уселся на верхушку большого камня и озирается во все стороны, нет ли где какой-нибудь опасности.
Но вот он убедился, что все обстоит благополучно, а какой-то субъект, которого он видит недалеко на камне, сидит смирно и ему наверно не помешает. Сеноставец соскакивает со своего камня и необыкновенно легко и свободно, не производя ни малейшего звука, абсолютно бесшумно, как тень, прыгает с одной каменной глыбы на другую, с одного обломка на другой, направляясь в какое-то, по-видимому, хорошо известное ему место.
Там среди камней расположена микроскопическая дерновинка, на которой растут несколько более высоких растений или кустик жимолости. Оказывается, туда-то и направляется зверек… Быстро срезывает он зубами кустик иван-чая или веточку жимолости, берет их за срезанное место в рот, так что кустик или веточка торчат в сторону и вверх, и, подняв высоко голову, быстро мчится куда-то.
Пробежав некоторое расстояние, он вдруг исчезает под огромной каменной глыбой и через несколько секунд появляется опять, но уже без ветки; затем снова бежит на ту же самую дерновинку, снова срезает там какое-нибудь растение и опять относит его под тот же камень.
Потом вдруг меняет направление и бежит за растением в другое место, оттуда тоже приносит несколько веток, а затем опять начинает бегать на прежнее место. Зачем он меняет место, неизвестно, может быть, просто для разнообразия, а может быть, ему почему-нибудь надо чередовать собираемые растения.
Но куда же и зачем он их таскает? Придется побеспокоить сеноставца и пойти посмотреть. Под огромной плоской каменной глыбой, лежащей на других больших камнях так, что она образует крышу и под ней получается хорошо защищенное от дождя и прекрасно проветриваемое пространство, вы находите склад сеноставца.
На камне или на нескольких камнях сложены запасы корма, которые зверек заготовляет себе на зиму. Внизу лежит уже готовое сухое сено, сверху - совершенно свежие, только что при вас принесенные растения. Благодаря замечательному устройству склада, при котором на просушиваемую траву не попадают ни дождь, ни солнце, сено у нашего зверька получается такое, какого у людей почти никогда не бывает: необыкновенно душистое и совершенно зеленое, а не выцветшее на солнце.
И каких только растений вы здесь ни найдете: настоящий гербарий местной флоры! Так собирают сено красные сеноставцы. Другой тяншанский сеноставец - большеухий - делает иначе. Срезанные растения он раскладывает для просушки на камнях, а потом собирает их уже сухими и уносит в свои кладовые.
Красный сеноставец очень живой, подвижный и, по-видимому, веселый зверек, но я никогда не слышал, чтобы он издавал хоть какие-нибудь звуки, как это делают другие сеноставцы, из которых многие, напротив, отличаются большой крикливостью.
Однажды мне пришлось видеть забавную сценку, когда сеноставцу вздумалось порезвиться. Он был один и совсем близко от меня, но не обращал на меня никакого внимания. Напротив, казалось, что именно для меня он и показывает свои штуки.
Зверек прыгал туда и сюда, срывая травку или соскребая с камня лишаи, затем остановился неподвижно, ко мне головой, присел и вдруг, высоко подпрыгнув на месте, перевернулся в воздухе и при падении на ноги оказался уже задом ко мне.
Оглянувшись, он сделал на том же месте еще такой же прыжок, так что очутился опять головой ко мне, и так проделал несколько раз, совсем как делают это собачонки, когда играют друг с другом или хотят вызвать хозяина на игру.
Потом сеноставец принял солидный вид и ускакал в камни. Теперь приведу обещанные примеры того, как я устраивался, чтобы моя служебная работа не мешала мне заниматься тем, что меня интересовало больше. При почвенных исследованиях для получения образцов роются различной глубины ямы, у которых три стороны делаются отвесными, а одна обычно устраивается более или менее пологой, чтобы легче было вылезать из ямы после взятия образца.
В ямы, особенно только что вырытые, очень часто попадают разные мелкие зверьки, живущие кругом и не подозревающие о неожиданном появлении на хорошо знакомом им месте предательской ловушки. Особенно легко попадают в ямы тушканчики, которые передвигаются большими прыжками и уже не могут остановиться, даже если вдруг и увидят перед собою яму.
Но те ямы, что роют почвоведы, только для почвоведов и годятся, а зоологу они ни к чему: если из них легко выбраться человеку, то еще легче выберется из них всякий зверек. Значит, надо устроить яму так, чтобы помешать зверьку уйти.
И я распорядился, чтобы все четыре стенки ямы делались вертикальными. Правда, мне самому стало труднее вылезать из них, но при моем высокой росте особенной беды в этом не было: в крайнем случае я мог прибегнуть к помощи кого-нибудь из рабочих.
Но зато из таких ям большинство зверьков уже выбраться не могло и наутро я находил их в ямах. Однако скоро оказалось, что наиболее прыткие из тушканчиков все-таки умудряются или выпрыгнуть из ямы, или прокопать за ночь такой длинный, косой ход, что выходят на поверхность и удирают.
Пришлось рыть ямы немного глубже, чем это было нужно собственно для почвенных исследований, но зато попадавшие в них тушканчики уже не успевали выкопаться за ночь: утром они оказывались где-нибудь в вырытой ими норке.
Однако для песчаного мохноногого тушканчика оказалось мало и таких ям. Для него пришлось специально копать особые ямы, свыше двух метров глубиною, тогда даже и он уже не мог уйти. Так, занимаясь по службе почвенными исследованиями, я и их приспособил для своей цели и собрал очень много интересных зверьков при помощи только немного видоизмененных почвенных ям.
В 1912 и 1913 годах я руководил почвенно-ботаническими экспедициями. Эти экспедиции должны были обследовать пустующие земли в Семиречье, чтобы выяснить, какие из них можно заселить. Здесь я уже и по службе должен был объехать как можно большую площадь, притом в наименее изученных и поэтому для меня особенно интересных местах.
Тут я мог знакомиться с самыми разнообразными природными условиями и столь же разнообразными зверями и птицами. На этот раз служба сама шла мне навстречу, и мне оставалось сделать очень немного для того, чтобы извлечь для себя как можно больше из этих поездок. Для объяснений с местным населением - казахами, уйгурами, киргизами - мне полагался переводчик.
Кто у меня будет таким переводчиком, никому дела не было. И я подыскал себе прекрасного, в высшей степени добросовестного переводчика - киргиза Садырбека Абдыбекова, который был также и охотником, замечательным знатоком птиц его родных гор и превосходным препаратором.
Здесь мне необыкновенно посчастливилось: Садырбек оказался для меня настоящим кладом. Этот замечательный человек заслуживает того, чтобы уделить ему здесь особое место. Простой, неграмотный киргиз, умевший только отмечать на этикетках пол птицы, месяц и число, Садырбек был настоящим натуралистом в душе, любившим природу и интересовавшимся ею совершенно так, как интересуются ею специалисты-ученые.
Когда я как-то спросил Садырбека, как бы он устроил свою жизнь, если бы был богат и мог устраиваться, как вздумается, он ответил, что купил бы себе всю землю по Музартам запретил бы там пастьбу скота и охоту, построил бы музей и занялся собиранием всех местных зверей и птиц.
Каждая новая птица, ящерица, змея, новый незнакомый зверек, попадавшие Садырбеку в руки, доставляли ему величайшую радость, и он их препарировал с особенной тщательностью и любовью. В первый год моей встречи с Садырбеком мы путешествовали по более или менее знакомым ему местам.
Но в следующую мою большую экспедицию, когда мы за лето проделали с ним верхом маршрут около 3000 километров, он попал из гор Киргизии, в которых родился, вырос и провел всю жизнь, в равнины и пески Прибалхашья.
Тут прямо трогательно было видеть тот восторг, с которым он следил за совершенно новой для него природой и накидывался на каждую очередную новинку. То и дело он соскакивал с лошади и мчался за какой-нибудь песчаной ящерицей, за стрелой-змеей, ловил песчаных жуков или с удивлением рассматривал нелепую фигуру степного удава.
Все, что он видел в песках, настолько его поражало, что здесь он начал интересоваться даже растениями, на которые раньше не обращал никакого внимания. Понятно, что с таким помощником мои дела по собиранию материала сразу пошли особенно успешно.
Когда я в 1914 году перешел от экспедиционной работы к почвенным исследованиям, то опять пригласил Садырбека, а с ним вместе и его приятеля, тоже киргиза - Султанбека, страстного охотника и замечательного стрелка, который ездил со мною и в экспедицию 1912 года.
Правда, Султанбек служил у меня в качестве рабочего для рытья почвенных ям, но для настоящего охотника свободных минут не бывает - каждую из них он спешит посвятить охоте. Едва кончив свою служебную работу и подкрепившись пищей и чаем, Султанбек хватал ружье и уходил или уезжал верхом на озеро Ала-Куль, на равнине которого я работал в то лето.
Птицы на этом озере было неисчислимое множество, а так как мы захватили и время пролета, то фауна птиц отличалась, кроме того, и необычайным разнообразием. Одних куликов за месяц здесь было собрано 29 видов! едко проходил день без того, чтобы Садырбек или Султанбек не поднесли мне с гордостью что-нибудь интересное, а то и новенькое.
Понятно, что с такими помощниками я был спокоен за успех по части сбора материала и сам мог уже почти не заниматься охотою. Благодаря этому у меня освобождалось время для наблюдений за жизнью птиц, их поведением, привычками, ходом пролета, словом, на изучение их биологии, в чем я, конечно, уже не мог положиться на других.
Тут мы общими силами собрали очень хорошую коллекцию птиц, среди которых некоторые до сих пор остаются единственными экземплярами, известными для Семиречья. Конечно, Султанбека пришлось сперва подучить, так как прежде он охотился, главным образом, на зверя и крупных птиц, вроде улара.
Но он был очень наблюдателен, быстро заинтересовался делом и, обладая прекрасным зрением и хорошей зрительной памятью, очень скоро научился разбираться в новом для него птичьем мире, несмотря на все его разнообразие, и стал редко приносить с охоты какую-нибудь ненужную «дрянь».
Садырбека и учить не надо было, так как он знал уже так много птиц, что сразу сам очень удачно ориентировался в том, что интересно и что неинтересно. Кстати, их охота была очень полезна и приятна и всей нашей маленькой компании (к которой, кроме нас троих, принадлежали еще моя жена и четырнадцатилетний сын), так как птицы у нас использовались, конечно, не только как научный материал: после снятия с них шкурок для коллекции, многие из них отправлялись на нашу «кухню», которую можно видеть на снимке.
Туда же шли и все съедобные, но мало интересные птицы, на препарирование которых жаль было тратить время. Раз заговорив о своих помощниках, я должен рассказать и о моем многолетнем возчике, копальском казаке Иване Максимовиче Скударнове.
Когда я узнал его, он был уже стариком, но обладал еще прекрасным здоровьем и очень большою физической силой. Пока я жил в Копале, я нанимал его каждое лето с одной или двумя лошадьми и телегой. С ним и проделал я все свои экспедиции и поездки по уезду.
Очень опытный, спокойный и выдержанный, в совершенство владевший казахским языком и прекрасно умевший ладить с казахами, он был незаменимым спутником, помощником в пути и переводчиком. Крайне заботливый и внимательный, он держал себя по отношению ко мне как настоящая няня, так что мне в походе не надо было думать решительно ни о чем.
Он знал, где лучше всего разбить лагерь, и всегда выбирал место замечательно удачно. Знал, где у меня что уложено, гораздо лучше, чем я сам, так как обладал прекрасной памятью и немедленно находил любую вещь моего довольно большого и разнообразного экспедиционного инвентаря.
Умел прекрасно найти все, что может понадобиться в пути, - юрту ли, воду ли, топливо, проводника. Готовил кушанье, если было из чего готовить, а в случае надобности мог и сам пойти раздобыть какого-нибудь бульдурука или зайца.
Старый казак, он прекрасно знал уход за лошадьми в пути. И в 1912 году, когда у нас в экспедиции, благодаря небрежному уходу того или иного из служащих, начали сбиваться спины у вьючных лошадей, как-то само собою случилось так, что надзор за седловкой и вьючкой взял на себя Скударнов, и сбивание спин прекратилось.
Очень неглупый и любознательный, он начал даже помогать мне в моей работе. Но категорически не соглашался стрелять птичек и взял на себя только собирание гербария. Зато здесь он проявил очень большую наблюдательность и делал всюду замечательно полные сборы, не пропуская даже самых малозаметных растений.
Когда я посетил Копал после перерыва в 20 лет, я уже не застал Скударнова в живых: он умер в возрасте 82 лет от воспаления легких. Верненское землетрясение. Поселившись в Копале, я продолжал начатое в Верном собирание насекомых, но гораздо более случайно, чем там.
Обыкновенно это бывало ранней весной, когда довольно голая вообще копальская степь покрывалась первыми, быстро отживающими свой век цветами, так называемыми эфемерами. Таких эфемеров в копальской степи и в песках Семиречья есть довольно много видов, но все они, ярко расцветив разными красками степь весною, в самое короткое время успевают отцвести, высохнуть и совершенно исчезнуть с лица земли, так что от многих из них вы и следов не найдете.
Правда, от них остаются луковицы или клубни, но их умеют находить только тушканчики и другие зверьки. Первыми обыкновенно появляются скромные беленькие крокусы, которые в Семиречье все называют подснежниками. Затем идут прехорошенький, нежный крошечный ирис Колпаковского и более нарядные желтые и ярко-красные тюльпаны.
А еще позже степь на громадных пространствах становится кроваво-красной от мака и совершенно похожей на мак ремерии. Одновременно с первыми цветами появлялись в стели около Копала и первые насекомые: в изобилии быстро бегали многочисленные жужелицы, «медленно спешили» полосатые, белые с черным, пешие жуки-усачи, и двигались в разных направлениях кое-какие другие жуки.
Это первое пробуждение весны всегда особенно сильно переживается тем, кто любит природу, и в это время я со своими детьми не пропускал ни одного хорошего дня, чтобы не пособирать насекомых. Но на первое место теперь все-таки опять стали птицы, и для всего остального времени оставалось уже мало.
В крошечном Копале было не то, что в Верном: здесь слишком легко доступна была природа, и я поспешил воспользоваться этим и вернулся к птицам, на время покинутым. В Копале стоило только пройти несколько сот шагов, как вы уже попадали в степь.
Еще немного - и начинаются густые лесные заросли по берегам речки Копалки, я за речкой сейчас же и горы. В Верном, где до настоящей природы добраться не так легко, поневоле много времени приходилось проводить в городе.
Поэтому как-то само собою вышло, что я обратил внимание на ту часть природы, которая только и была доступна мне в городе, т. е. на насекомых. А пришло время (правда, гораздо позже, только через много лет), когда насекомые опять выдвинулись вперед, а от собирания птиц мне пришлось и совсем отказаться.
Никак не думал я, что это может случиться, а случилось. Как и почему, об этом я расскажу дальше. При своих поездках, сидя где-нибудь тихо с целью понаблюдать за какой-нибудь птицей или же просто отдыхая, я нередко бывал свидетелем интересных сценок из жизни насекомых.
То крупная оса с трудом волочит огромного тарантула; то другая оса тащит за длинные усы большого кузнечика; то отряд красных муравьев выступает в набег на муравейник черных; то жук «до седьмого пота» бьется, стараясь непременно зачем-то вкатить навозный шар на песчаный холмик, а шар все упорно скатывается вниз: то оса бембекс стремительно влетает в палатку, мгновенно схватывает какого-нибудь из укрывшихся там слепней и так же стремительно исчезает с ним, унося его в свою норку на корм личинкам; то хищная муха-ктырь, сорвавшись с былинки, где она сидела, подстерегая добычу, молниеносно устремляется на пролетающую мимо бабочку, схватывает ее, убивает уколом хоботка и усаживается высасывать свою жертву.
Однажды я сидел на песчаном берегу Балхаша, высматривая в камышах балхашского ремеза и камышевок. Никто не показывался. Я отвел на мгновение глаза от камышей и вдруг заметил около себя небольшую осу-охотника, быстро шнырявшую то туда, то сюда по песку и все время ощупывавшую усиками его поверхность.
Но вот, остановившись на совершенно голом месте, оса вдруг засуетилась, особенно тщательно исследуя усиками одну какую-то точку, на мой глаз решительно ничем не отличавшуюся от остальной поверхности песка. Затем на мгновение замерла неподвижно и неожиданно начала стремительно рыть песок лапками.
Вскоре из песка показался какой-то кружочек, оказавшийся крышечкой, закрывавшей норку наука. Оса вцепилась в крышку челюстями, оторвала ее, отбросила в сторону и сунула головку в норку. Спустя мгновение она отступила, а из норки выскочил паук, который бросился за убегавшей осой.
Но удирала она недолго: едва сделав несколько шагов, она мгновенно обернулась и перешла в наступление. С молниеносной быстротой она кинулась на паука, и в ту же секунду он оказался лежащим неподвижно на песке. Оса схватила его и потащила в его же норку, откуда вскоре вышла и улетела - настолько быстро, что я не успел ее поймать.
Очевидно, ей надо было только выманить паука из его тесного убежища, где она с ним справиться не могла бы. А на просторе она мгновенно безошибочным движением жала уверенно парализовала его, чтобы затем положить на него свое яичко и превратитъ жертву в запас всегда свежей пищи для своей личинки.
В другой раз я наблюдал интереснейшее состязание в быстроте, ловкости и смелости между пауком и муравьем-фаэтончиком. За быстро мчавшимся по степи фаэтончиком вдруг бросился откуда-то появившийся небольшой паук прыгунчик.
Делая огромные прыжки, он быстро догнал муравья, но едва приблизился к последнему, как тот мгновенно обернулся, принял оборонительную позу и даже двинулся по направлению к пауку. Паук отступил, но как только муравей побежал дальше, паук снова ринулся в погоню за ним.
Фаэтончик снова заставил его ретироваться. Так продолжалось несколько раз, но в конце концов победителем оказался все же паук. дачно рассчитанным прыжком он упал прямо на муравья и в тот же миг укусил его за поднятое кверху брюшко.
Этого было достаточно для того, чтобы муравей тут же упал мертвый. В песках постоянно обращали на себя мое внимание особенные, быстро бегающие пестроногие клещи. Едва вы сядете на песок, как к вам уже бежит откуда-то взявшийся клещ.
Вы встаете и отходите в сторону, он немедленно поворачивается и опять спешит к вам. Если вы возьмете палочку и упрете ее в песок, он подбежит к этой палочке и будет менять направление по мере того, как вы, не сходя с места, будете переставлять ее то туда, то сюда.
Терпение клеща неистощимо, и вам раньше надоест ваш опыт, чем клещу гоняться за вашей палкой. Чтобы отвязаться от него, надо быстро уйти сразу подальше, тогда только он перестанет вас чуять и оставит в покое. Так, при моих постоянных поездках, я невольно продолжал постепенно знакомиться с жизнью таких живых существ, о которых раньше никогда не думал.
Правда, сам я так и не начал заниматься насекомыми и другими беспозвоночными, так как «нельзя объять необъятное», как сказал Козьма Прутков. Но я все регулярнее и все в больших и больших размерах стал собирать их для тех наших специалистов, которые ими занимаются, причем вслед за насекомыми стал обращать внимание и на паукообразных - пауков, клещей, ложноскорпионов, фаланг, скорпионов, а также многоножек.
В это же время, т. е. когда я жил в Копале, директор Зоологического музея Академии Наук, зная, что я езжу в экспедиции и собираюсь ехать опять, предложил мне собирать для музея попутно также мелких зверьков. о этого я их совсем не собирал, и ко мне в банку со спиртом попадали только совсем случайные экземпляры: кто-нибудь принесет пойманную летучую мышь, дети найдут мертвую землеройку или мышь, кошка притащит что-нибудь.
У меня не было даже подходящих ловушек. А тут музей снабдил меня целой кучей ловушек самых разнообразных и хитроумных систем и просил меня испытать их на практике. К счастью, кроме всяких мудреных машинок, при которых нужны были чуть ли не целые инструкции для их настораживания, в данной мне коллекции оказались и обыкновеннейшие деревянные мышеловки с проволочной дужкой.
И на деле оказалось, что они не только несравненно лучше всех патентованных заграничных, но и вообще единственно годные в поле. Делая опыты с ловушками, я в первую же поездку начал понемногу ловить зверьков, а затем постепенно стал собирать их уже регулярно.
Начал применять ловушки и в Копале, и вскоре же оказалось, что занялся я этим не напрасно: даже в моих копальских сборах нашелся зверек, которого до тех пор в этих местах так далеко к югу никто не находил, - землеройка-малютка.
Нашлась и другая землеройка, которая оказалась новой, еще неизвестной в науке формой бурозубки. Это меня, конечно, заинтересовало и заставило обратить больше внимания на млекопитающих. Я стал собирать их систематически, параллельно с птицами, тем более, что одно другому не мешало: за птицами ходишь днем, а для зверьков поставишь капканчики на ночь, и утром остается только обойти их и бросить добычу в спирт.
Чем больше я знакомился с новой для меня группой животного мира, тем она мне казалась все интересней, и, наконец, я начал даже увлекаться всей этой звериной мелочью и стал собирать уже для себя. А когда разные зверушки стали проходить через мои руки сотнями за лето и общее число пойманных мною стало измеряться даже тысячами, я увидел, что и млекопитающие тоже не какое-нибудь заколдованное царство, для занятия которым надо знать «слово».
‟A force de forger on devient forgeron” (Благодаря тому, что куешь, становишься кузнецом.), говорят французы. Так и я: начав собирать зверьков для других, я, в конце концов, настолько освоился с ними, что перестал их «бояться» и решил, что могу и сам обработать их, т. е. написать о них книгу.
Повторилась та же история, что и с пресмыкающимися: новая для меня группа животного мира потеряла свою таинственность и кажущуюся недоступность, и в pendant к «Пресмыкающимся Семиречья» появилась моя книга «Млекопитающие Семиречья».
В копальский период жизни мне в самом Копале пришлось видеть довольно редкие явления природы: сильнейшую грозу зимою, при морозе градусов в пятнадцать, и великолепную яркую ночную радугу, резко выявлявшуюся на темном небе.
Радуга была видна до тех пор, пока вызвавшая ее луна была скрыта горами, и ее свет не подавлял сияния радуги. А однажды в Копале наблюдалось даже северное сияние, как известно, явление крайне редкое в таких южных местах.
В этот же период, в одну из своих служебных поездок, я случайно стал свидетелем одного из грандиознейших проявлений сил природы, какие только мы знаем.
XII. Верненское землетрясение в 1910 году.
В декабре 1910 года в Верном происходил областной съезд служащих разных учреждений Семиреченской области. Должен был приехать в нашу «столицу» из своего захолустного Копала и я. Ничего интересного сам съезд не представлял, но мне с этой поездкой все-таки посчастливилось: я оказался очевидцем знаменитого верненского землетрясения 21 декабря 1910 года (3 января 1911 года по новому стилю).
Хотя и принято говорить: «врет как очевидец», но я постараюсь не оправдать этой поговорки и рассказать здесь все, что помню об этом грозном явлении природы, вполне точно. 21 декабря я лег спать очень поздно и едва успел как следует заснуть, как увидел сон, что где-то около нашего дома по булыжной мостовой едет целая вереница тяжело нагруженных ломовых извозчиков, от которых стоит такой грохот, что трясется весь дом.
У меня даже во сне мелькнула мысль, что теперь уже зима, лежит глубокий снег, наш дом стоит в саду, в середине большого квартала, да и никаких ломовиков и мостовых в Верном не существует, так что никакого шума слышно быть не может.
С этой мыслью я проснулся и, услышав наяву тот же грохот, сразу сообразил, что это землетрясение. Впрочем, тут и соображать было нечего, так как тахта, на которой я спал, качалась, как палуба парохода, весь дом трещал и дрожал.
А встав, чтобы одеться, я убедился, что устоять на ногах невозможно, не опираясь о печку или стену, которые, впрочем, тоже не стояли так смирно, как обычно. Сотрясение почвы все еще продолжалось и кончилось только после того, как я успел совсем одеться.
За сколько времени до того, как я проснулся, оно началось, я не знаю, но, во всяком случае, у нас в доме все уже успели вскочить и кое-как одеться, а мне в запертую дверь давно отчаянно стучали, опасаясь за мою жизнь: боялись, не придавило ли меня упавшей печкой.
Впоследствии точно выяснилась продолжительность толчка: он продолжался без перерыва 5 минут. Впрочем, это был вовсе не толчок и даже не несколько следующих один за другим толчков, как это обычно бывает при землетрясениях.
Здесь было именно в самом буквальном смысле слова землетрясение: непрерывное пятиминутное сотрясение земной коры, совершенно такое, каким бывает сотрясение сита, когда хозяйки сеют муку: вверх, вниз, в стороны. Сила сотрясения при этом была настолько велика, что на поверхности земли образовались не только большие трещины.
Огромные глыбы земли в десятки кубических метров поднимались, опускались, перевертывались на бок, образуя что-то вроде вспаханного грандиозным плугом поля. Неудивительно, что устоять на ногах при этом было невозможно.
Правда, в самом городе таких сильных разрушений поверхности земной коры не было, они захватили только окраину, так называемые «клеверные участки». Но трещины в земле и множество разрушенных зданий были и в городе.
Одна из трещин пришлась как раз посредине дерева и расщепила его пополам, как это видно на снимке. Разрушенными зданиями и упавшими печами было убито в городе свыше 50 человек. Цифра очень небольшая и даже ничтожная, по сравнению с числом людей, погибших при разных других известных землетрясениях.
Но в действительности и она велика, так как, если бы в Верном были такие условия, как, например, в Мессине или Лиссабоне, то цифру эту пришлось бы увеличить в сотни раз. ерный уже однажды (в 1887 году) был разрушен сильным землетрясением, и с тех пор принимались особые меры, чтобы оградить город на будущее время.
Каменные дома совершенно не строились, и их во всем городе было наперечет несколько штук, низеньких, одноэтажных. Деревянные дома строились тоже небольшие, и более чем в два этажа строить не разрешалось. Да и двухэтажных было очень немного, и притом этажи были такие низкие, что дома мало отличались от одноэтажных в каком-нибудь большом городе.
Кроме того, очень многие дома по углам, где соединяются бревна, были еще прошиты толстыми железными прутьями сверху донизу, а печи прикованы к стенам железными полосами. Все эти меры спасли город и жителей. Если бы Верный в 1910 году был двух-трехэтажным, каменным, как в 1887 году, в нем, вероятно, осталось бы в живых очень немного людей, настолько мощно было в этот раз сотрясение почвы.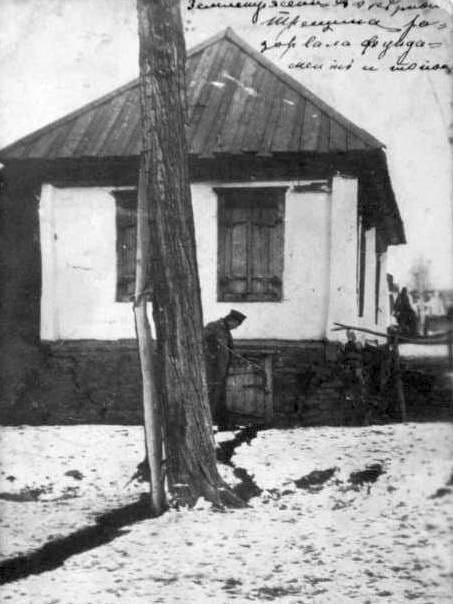
Ни одни большой каменный дом его выдержать, конечно, не мог бы и в первые же моменты рассыпался бы по кирпичам. А так как землетрясение произошло в 4 часа 35 минут утра, когда зимою все еще спят, никто выскочить не успел бы.
Замечательно, что оба верненских землетрясения произошли буквально в одну и ту же минуту: в 4 часа 35 минут утра. Но первое было в мае, и для многих в очень рано встававшем Верном это было уже действительно утро; а в декабре это даже и здесь для всех - ночь.
Кроме погибших непосредственно под развалинами домов, главным образом глинобитных, многие умерли потом от простуды. В эту ночь было 20 градусов мороза, и более нервные люди в панике выскакивали на улицу в одних рубашках и ждали там, пока земля успокоится.
Воспаление легких унесло на тот свет многих из них. У других тяжело пострадала нервная система: в состоянии почти полного сумасшествия они бросали все и бежали из Верного. А одни мой знакомый инженер впал даже в буйное помешательство, был заключен в сумасшедший дом и там вскоре умер.
Но и из поселившихся где-нибудь в надежном городе беглецов некоторые в течение многих месяцев целыми часами молча просиживали над самодельными сейсмографами - налитыми до самых краев блюдечками и смотрели, не прольется ли вода.
Впрочем, большинство из них, кто через год, кто через два, все-таки вернулось в Верный на родное пепелище. Но после этого уже каждый малейший толчок, - а они в Верном тогда были довольно обычны, - приводил их в панику.
После первого главного сотрясения все утихло, и все решили, что это уже конец, как это чаще всего бывает при землетрясении. Наш дом был построен после землетрясения 1887 года очень тщательно и со всеми предосторожностями, так что в нем не были даже оштукатурены потолки.
В нем не произошло никаких разрушений, и я вполне спокойно улегся продолжать некстати прерванный сон. Но оказалось, что все ошиблись, и что это был еще далеко не конец, а только начало, хотя и самое страшное. Через некоторое время раздался второй толчок, а потом, с довольно значительными промежутками, - еще два.
Толчки эти были хотя и значительно слабее первого и короткие, но все же достаточно сильные для того, чтобы продолжать начатые главный толчком разрушения. От этих трех толчков развалилось еще много домов, первоначально только поврежденных, но новых человеческих жертв не было, так как заходить в поврежденные постройки люди все-таки опасались.
Эти новые толчки показали, что землетрясение вовсе не кончилось и неизвестно, когда кончится, так что ни о каком успокоении, очевидно, и думать нечего. И, действительно, весь этот день и все последующие раздавались все новые и новые толчки, которых, по моим записям, бывало до 5 - 6 только в течение дня.
Притом я записывал только более сильные, а на маленькие уже внимания не обращал: их было слишком много, иногда десятки ежедневно. Однако всему должен прийти конец, и мало-помалу толчки становились реже и делались все более и более слабыми.
Люди начали понемногу успокаиваться, и нервная система у них начала налаживаться, так как теперь уже было ясно, что нарушенное равновесие в земной коре, наконец, восстановилось. Встречали новый 1911 год в самой необычайной обстановке: в поврежденных домах с упавшими или рассылавшимися печами, которые некому было чинить, так как печники не могли справиться в несколько дней с ремонтом целого города; с обвалившейся штукатуркой, разбитыми стеклами в окнах, заклеенных бумагой или заделанных фанерой.
Жильцы особенно пострадавших домов или люди наиболее трусливые жили даже в юртах, наспех привезенных и расставленных во дворах. Даже главное начальство края - губернатор переселился в юрты, так как губернаторский дом, как самый большой в городе, пострадал очень сильно, и жить в нем было невозможно.
Но все-таки новый год встречали довольно спокойно, так как особенно сильных толчков не было уже несколько дней, а к маленьким многие успели привыкнуть и перестали обращать на них внимание. Каждый, поздравляя другого с новый годом, желал ему никогда больше не испытывать того, что всем пришлось только что пережить, желал скорее привести в порядок пострадавшую квартиру, перебраться из холодных юрт в более культурное помещение и зажить опять нормальной жизнью.
Никто из поздравлявших и не подозревал, как далеки от предстоящей действительности все эти пожелания и как близок момент, когда о них придется забыть еще надолго. Днем первого января, по тогдашнему обычаю, служащие всех учреждений Верного начали собираться в Военное собрание, чтобы в 12 часов дня официально, с бокалом шампанского, поздравить друг друга и начальника области - губернатора - с новым годом.
Все было проделано чин чином, как полагается, и начались обычные разговоры, которые, впрочем, на этот раз, соответственно моменту, вращались исключительно на землетрясении и на том, что так как оно, слава богу, наконец, кончилось, то пора подумать о восстановлении нормальной жизни в городе.
Рассказывали друг другу, как каждый перенес бедствие, что ему удалось наблюдать при этом интересного и т. д. И вдруг большое здание Военного собрания (теперь Дом Красной Армии) дрогнуло и с зловещим скрипом и треском закачалось, как на волнах.
Надо было видеть, как мгновенно водворилась мертвая тишина, и как вся масса людей, перепуганная, с бледными лицами, бросилась наперегонки к выходным дверям! Качание здания скоро прекратилось, и в вестибюле все опомнились, устыдились и стали делать вид, что нисколько не торопятся одеваться и что только общая паника заставила их так быстро исчезнуть из зала.
Но я уверен, что в душе каждый думал:
- «…А вдруг, черт возьми, опять, да еще почище?!»
Уже этот толчок сильно подействовал на всех и вызвал опять подавленное настроение, так как уничтожил уверенность в окончании землетрясения. Начавший было исчезать инстинктивный страх перед таинственной стихией возвратился с новой силой, тем более, что теперь и уцелевшие дома получили новые повреждения и становились все менее и менее надежной защитой.
Да и сама земля, изрезанная трещинами, окончательно перестала быть в глазах верненцев той верной опорой, на которую мы привыкли так надеяться. Но оказалось, что и это еще не все… Вечером я был в гостях у своего сослуживца, горного инженера Корнеева.
У него на столе стоял маленький, упрощенного устройства, сейсмограф. Мы мирно беседовали, даже забыв об утреннем толчке, как вдруг ровно в 11 часов вечера громко зазвонил висячий дверной колокольчик у парадной двери и одновременно зазвонил звонок сейсмографа.
Весь дом качался и трещал, стулья, на которых мы сидели, сдвинулись с места. Словом, толчок был хотя и короткий, но очень сильный. Тревожась за семью, я поспешил домой и в пути был свидетелем следующего толчка в 11 часов 15 минут.
Этот тоже очень сильный толчок я мог даже, так сказать, наблюдать. Ночь была ясная, без облачка, ярко светила луна, и благодаря снегу было особенно светло. По пути домой я вдруг услышал сильный гул, быстро приближавшийся с юго-юго-запада.
Я остановился, чтобы лучше проследить толчок. Когда волна колебания почвы, сопровождавшаяся все усиливавшимся гулом, приблизилась, но еще не дошла до меня, я вдруг увидел, как все деревья, росшие вдоль улицы, при полном штиле наклонились и сильно закачались, как при внезапном порыве сильного ветра.
Ночевавшие на деревьях вороны и галки с криками сорвались с места и в испуге начали носиться взад и вперед. В следующее мгновенно волна дошла до меня, но я заранее нарочно стал покрепче и устоял на ногах без труда. Затем волна с тем же сильным гулом прошла через открытую площадь (где теперь сосновый парк) и унеслась вниз в станицу.
Придя домой, я застал там полный переполох: выносились тюфяки, подушки, одеяла, шубы, пальто, и все это размещалось в санях и экипажах, в которых все должны были провести ночь, так как оставаться в доме теперь боялись.
До сих пор мы спокойно спали в комнатах, но эти неожиданные новые толчки настолько всех напугали, что решено было последовать общему примеру и ночевать под открытым небом. Не очень это была приятная ночевка, так как морозы все еще продолжали держаться на 15 - 20 градусах.
Впрочем, эта первая ночь, проведенная нами на воздухе, была и единственной, и уже на следующую мы вернулись в комнаты. Но на большинство жителей эти новогодние толчки подействовали чуть ли не сильнее, чем первый, - тот ударил по здоровым нервам, а эти были встречены уже людьми с больной нервной системой.
Кроме того, благодаря временному затишью, люди успели уверить себя, что больше бояться нечего, а теперь оказалось, что эта уверенность ничего не стоит. Вместо нее появилось чувство полной безнадежности. Тем более, что двумя вечерними толчками был опять разрушен ряд домов, и погиб кое-кто из людей, уже вполне успокоившихся и вернувшихся в свои поврежденные жилища.
И именно после первого января началось особенно усиленное бегство из города. Решила вернуться в Копал и моя жена, которая только в эту зиму переселилась в Верный. Ее нервная система настолько расшаталась. что она не могла больше переносить постоянных ежедневных толчков, которые все продолжались и продолжались.
Я упоминаю здесь об этом только потому, что тут мне пришлось наблюдать замечательное свойство нашей нервной системы. Едва мы переехали в Копал, где толчков в это время уже совсем не было, как я начал испытывать какое-то безотчетное неприятно-тоскливое чувство неудовлетворенности, как будто мне чего-то не хватает, чего-то хочется, а чего - неизвестно.
Вскоре я понял, чего недостает: толчков. Оказалось, что моя нервная система настолько привыкла к постоянному возбуждению, что уже стала нуждаться в нем. Как привыкает организм к табаку, спирту, кокаину, так и мой организм привык к толчкам, и без них ему некоторое время было как-то не по себе.
Замечательно при этом, что совершенно такое же чувство тоски и неудовлетворенности испытывала и моя жена, которая сама же бежала от этих самых толчков. Землетрясение 1910 года произошло, собственно, не в самом Верном, а довольно далеко от него.
В Верном это был как бы отголосок того, что имело место в главном очаге землетрясения, в долине реки Большой Кебень (Большой Кемин). О том, что делалось там, мне рассказал мой сослуживец В. В. Гурин, во время служебной поездки случайно очутившийся в этот день как раз в Кебени.
Он ночевал в избе лесного объездчика, построенной, что называется, на совесть из толстых бревен. В самом начале толчка, который там был ужасен, все бросились из избы, но немедленно были сбиты с ног и больше подняться уже не могли.
Мой сослуживец, сидя на снегу, инстинктивно схватился за землю совершенно так же, как на тряской дороге люди хватаются за сиденье. Так он и сидел, держась обеими руками за землю до самого конца толчка, настолько сильно его швыряло и подбрасывало. Когда сотрясение земной коры кончилось, обитатели лесного кордона увидели, что изба совершенно разрушена и отдельные бревна далеко раскиданы в разные стороны.
Самовар же был найден утром в 30 шагах от дома, куда его откатило почти непрерывное сотрясение почвы. Я не могу уже теперь вспомнить всех интересных и иногда совершенно непонятных случаев в момент первого толчка, о которых тогда так много говорилось в городе.
Припоминаю только два, причем оба они точно проверены и не вызывают сомнения в их достоверности. В одном доме со стола упала на пол высокая, большая лампа со стеклянным резервуаром и таким же абажуром. Лампа эта была найдена на полу в двух шагах от стола, куда ее откатило толчками, и при этом не только резервуар и стекло, но даже абажур у нее оказались целехоньки.
Как они могли не разбиться при падении лампы со стола - непостижимо. Должно быть, пол в это мгновение сделал какое-то движение, которое парализовало силу удара при падении. В другом случае на верхней полке шкафа рядом с книгами стояла большая пачка наклеенных на картон фотографических снимков, на второй и на нижней полках были книги.
От толчка дверцы шкафа распахнулись, и большая часть содержимого вылетела на пол. Но часть фотографий удивительным образом переместилась с верхней полки на самую нижнюю. Очевидно, сотрясение было такое сложное, что карточки получили какой-то особенный круговой толчок, благодаря которому они описали в воздухе дугу и, будучи выброшены с верхней полки, попали на нижнюю.
Не могу не рассказать также о странном факте, обратившем на себя общее внимание и долго потом служившем темой оживленных разговоров. Как я уже упомянул, я приехал в Верный на съезд. На этом съезде, кроме закрытых, чисто деловых заседаний, по некоторым наиболее интересным вопросам делались доклады, на которых могли присутствовать все желающие.
В то время, да еще и долго после того, в Семиречье лесным ревизором, т. е. начальником лесного управления, был старик Э. О. Баум.
Это был настоящий фанатик леса, дрожавший над каждым деревом так, как будто он сам его сажал и ухаживал за ним. И для него всегда было ножом острым то исключительное обстоятельство, что после землетрясения 1887 года в Верном была запрещена постройка каменных зданий: волей-неволей ему приходилось давать разрешение на рубку деревьев.
И вот он решил воспользоваться съездом и, неизвестно уж в который раз, снова выступить в защиту леса. Баум был известен в Верном как прекрасный оратор, и на его публичный доклад собралось много народа. Величественный, седой, почтенный старик появился на трибуне и произнес горячую громовую речь на тему о том, что в Семиречье леса имеют водоохранное значение; что здесь надо дорожить каждым деревом и что смешно и глупо из-за какого-то нелепого страха перед воображаемым землетрясением разорять край истреблением леса, последствием чего будут засуха и неурожай.
Последнее землетрясение, говорил он, было 23 года тому назад, и только неуравновешенные люди могут до сих пор дрожать и думать, что, если в Верном однажды было землетрясение, оно непременно будет и опять. Тут он привел примеры известных в истории землетрясений, которые не повторялись сто лет и больше, и закончил свою речь пламенным призывом к здравому смыслу присутствующих и требованием к властям отменить, наконец, запрещение в Верном каменных построек и стать на защиту гибнущего леса.
Великолепно построенная и так же произнесенная речь Баума произвела огромное впечатление. Ему была устроена овация. Можно было ручаться, что его призыв будет услышан. Но… речь эта была произнесена днем 21 декабря, а ночью… разразилось землетрясение, оставившее далеко за собой даже катастрофу 1887 года!
Сам Баум едва не погиб: выскочив в одном белье на мороз, он схватил жестокое воспаление легких. Это поразительное совпадение прямо ошеломило не только присутствовавших на докладе Баума, но и всех, так как в день доклада содержание его было темой оживленных бесед всюду в городе.
В заключение своих воспоминаний о землетрясении расскажу один трагикомический случай с двумя моими сослуживцами, имен которых, пожалуй, лучше не называть. После усердного возлияния Бахусу они возвращались вдвоем из клуба, заботливо помогая друг другу сохранять равновесие.
Когда они дошли таким образом до квартиры одного из них, хозяин предложил товарищу остаться ночевать у него, чтобы тому не тащиться на окраину, где так легко заблудиться одному. Как любезный хозяин, он предложил гостю свою кровать, а сам лег на полу.
И вот вскоре после того, как они оба заснули, разразилось землетрясение. Несмотря на опьянение, приятели все-таки проснулись; гость, сразу протрезвившись, понял в чем дело, соскочил с кровати и стремглав выбежал на улицу, но вдруг услышал дикие крики, доносящиеся из квартиры.
Вопли все усиливались, а, между тем, хозяин квартиры почему-то не появлялся. Не понимая в чем дело, гость все-таки не решился войти в дом и только все кричал приятелю, чтобы тот скорее выбегал на улицу. Наконец, землетрясение прекратилось, и гость, пересилив страх, зашел в дом, зажег спичку и увидел, что хозяин с безумным видом сидит на полу и продолжает дико вопить.
Только при свете торопливо зажигаемых товарищем спичек он в конце концов пришел в себя и замолчал. Что же случилось? Проснувшись от толчка и догадавшись, что это землетрясение, он тоже хотел вскочить с кровати и бежать, но… оказалось, что, как он ни пытался спустить с воображаемой кровати ноги, чтобы бежать, у кровати нигде нет края.
В ужасе он метался то туда, то сюда, но так нигде и не мог нащупать края кровати и добраться до «пола». Что он сидит на полу и что ему для того, чтобы бежать, надо подниматься кверху, а не опускаться вниз, он начисто забыл и понял это только после того, как зажгли свет.
4. По высокогорьям Тянь-Шаня. XIII. Экспедиции 1912 - 1917 годов. 1917 - 1921 годы.
Как я уже говорил, в период жизни в Копале я много ездил и начал уже основательно знакомиться с местной природой. Но так как при своих поездках я должен был осматривать, главный образом, такие места, где возможно устройство переселенцев, т. е. можно заниматься сельским хозяйством, то мои экспедиции захватывали преимущественно равнинную часть Копальского уезда.
Природа, с которой я знакомился здесь, была не так уж разнообразна. Побывал я, правда, и в горах, но это были хребты не особенно высокого Джунгарского Алатау, а настоящих высоких гор я все еще почти не знал.
Конечно, первая моя большая экспедиция 1908 года, когда я вместе со Скударновым попал в пески Балхашского побережья, где до меня было всего два или три исследователя, произвела на меня огромное впечатление. Но следующие экспедиции на Балхаш, в 1909 и 1910 годах, такого сильного впечатления уже не производили, как и более мелкие поездки в районе предгорий или подгорной полосы.
Все здесь становилось уже более или менее знакомым и привычным. Меня манили теперь грандиозные горные хребты и глубокие долины Центрального Тян-Шаня, но пока я служил а Копале, туда никак нельзя было устроить служебную поездку: они были слишком далеко от моего Копальского уезда и никакого отношения к нему не имели.
Но вот в 1912 году я получил новое назначение, опять переехал в Верный и теперь должен был руководить экспедицией для обследования как раз интересовавших меня мест. Тут я увидел, наконец, природу, не имеющую ничего общего с тою, которая была мне знакома до сих пор. Вместо плоской, часто выжженной солнцем, жаркой равнины, большая часть нашего пути проходила теперь по горным высотам, где не было мест ниже 1700 метров над уровнем моря.
А на сыртах Сарджаса даже устья орошающих горные долины рек лежали на высоте 2500 метров; перевалы же, через которые нам приходилось переходить из одной долины в другую, достигали 4000 метров. На них нас не раз в июле месяце захватывали снежные бураны.
Через высочайший перевал Тюз путь на большом протяжении шел по косогору огромного, круто поднимающегося ледника. И только благодаря тому, что перед самым нашим проходом ледник покрыло слоем снега, мы этот переход совершили без особенного труда.
Но если бы снегу вздумалось в этот момент соскользнуть и полететь вниз по крутому ледяному склону, от всей нашей большой экспедиции немного осталось бы. Гораздо хуже пришлось здесь каравану военного топографа, полковника Аузан, производившего на сыртах астрономические наблюдения.
Он проходил здесь незадолго до нас, но до выпадения снега, и застал на леднике голый лед. И ему пришлось на протяжении всего подъема вырубать в этом льду ступеньки и по ним осторожно переводить по одной всех лошадей.
В итоге тот переход по леднику, который у нас занял не больше часа, у него занял время с раннего утра до вечера. Вместо ровных дорог равнинного Семиречья, по которым можно ехать хоть в автомобиле, здесь нам часто приходилось пробираться по узким тропинкам в таких местах, где с одной стороны возвышалась стена, а с другой зияла глубокая пропасть, падение в которую грозило неизбежной гибелью.
Одна из таких тропинок, вдоль реки Сарджас, была настолько узка, что во многих местах на ней с вьюком пройти уже было нельзя, и нам пришлось вьючный караван отправить по дальней обходной дороге. Сами же мы из любознательности поехали прямым путем.
Путь этот оказался очень живописным и интересным, так как тропа была выбита в отвесной стене и висела над бурно мчащимся в теснине могучим здесь Сарджасом. Но тропа эта местами была так узка, что не только о вьюках нечего было думать, но и просто верхом проехать было нельзя: не оставалось места для той ноги, которая приходилась к стене, и надо было или перекинуть ее через седло и ехать по-дамски, или слезать и вести лошадь в поводу.
Здесь не гоняют даже привычных к горным тропам баранов: для них-то и была устроена та обходная дорога, по которой пошел наш вьючный караван. Она так и называлась: «кой-джол» (баранья дорога). Бурный, многоводный Сарджас доставил нам и другое, но гораздо менее приятное и интересное развлечение.
Когда мы подошли к тому месту, где надо было через него переправляться, оказалось, что вода так велика, что даже местные проводники начали с сомнением покачивать головой и поговаривать о том, не лучше ли отложить переправу до завтрашнего дня.
Но так как останавливаться на ночлег было чересчур рано, то начались поиски брода. К проводникам присоединился старик Скударнов, и все они верхом бросились в воду, исследуя русло реки. Довольно долго лошади их плавали, нигде не находя дна.
Они несколько раз выбирались на берег, чтобы немного обогреться, так как ледниковая вода была нестерпимо холодна. Но вот лошадь Скударнова стала на ноги, к нему поспешили остальные разведчики, и, наконец, общими силами они установили направление, по которому можно рискнуть перевести караван.
Однако брод был настолько глубок, а течение настолько стремительно, что обыкновенным порядком, гуськом, по одному, переправляться было невозможно. И переправлялись мы так: каждую лошадь со всадником или вьючную окружали пять или шесть верховых проводников; такими небольшими, тесно сбившимися группами и происходила переправа.
Сколько раз пришлось переехать реку туда и назад этим провожатым, трудно и сказать. Только закаленные, как будто совершенно не знающие, что такое холод, горные киргизы способны вынести такое продолжительное пребывание в ледяной воде. Эта переправа через реку в какую-нибудь сотню метров шириною заняла у нас несколько часов.
А перед тем у нас была другая интересная переправа через реку Иныльчек. Там и вода не особенно глубока, и течение не сильное, но оказалось, что галечник, из которого состоит дно реки, как это ни кажется странно, далеко не везде лежит плотно: во многих местах лошади в нем вязнут и погружаются, как в болото.
Пришлось и здесь тщательно исследовать брод и выяснить направление, по которому переправа возможна. Оказалось, что вместо того, чтобы переходить прямо поперек реки, нам предстояло проделать сложный извилистый путь, с несколькими поворотами и выходами на отмели.
Без местных проводников с их замечательными, сильными, ничего не боящимися лошадьми, нам вряд ли удалось бы благополучно переправиться на этих переправах. Очень интересной оказалась долина реки Иныльчек. Тот, кто интересуется геологией, нашел бы здесь настоящий музей для изучения геологических процессов.
С левого хребта этой долины, образованного мраморами, текут многочисленные ручьи и речонки. Здесь мне пришлось видеть интереснейшие результаты деятельности воды: эти ничтожные ручьи умудрились проточить в мраморном хребте настоящие щели, шириною иногда всего в 3 - 4 метра, с отвесными стенами в сотни метров высоты.
Эти щелки или коридорчики то идут прямо, то делают изгибы; мостами их полированные стены на некоторой высоте почти смыкаются, образуя низкие своды, и тогда в коридорчике становится почти темно. Мне очень хотелось исследовать эти щелки: проникнуть по ним подальше в глубину хребта и собрать всех животных, какие там водятся.
Но это было слишком рискованно. Ведь если где-нибудь повыше в горах пройдет дождь, что на этих высотах может случиться в любой момент, то вода и ручьях мгновенно поднимется, щели наполнятся волнами бурных потоков, и гибель захваченного таким внезапным наводнением человека неизбежна; гладкие полированные стены щели не оставляют для него никакой возможности спасения.
В одном месте на дне долины лежала огромная груда грандиозных мраморных глыб. Достаточно было взглянуть кверху, чтобы у видеть, откуда взялся весь этот каменный хаос: у самой вершины хребта, там, где он образует отвесную каменную стену, видна была свежая «рана» - место, откуда оторвалась обрушившаяся часть стены.
При падении с высоты километра она разбилась на куски, образовав груду обломков. Когда мы добрались до этой уединенной, трудно доступной и совершенно никем не посещаемой глубокой высокогорной долины, выбрали подходящее место и стали на нем устраиваться, мы были положительно ошеломлены необычайной находкой: на земле были разбросаны… самые настоящие городки и палки к ним!
Трудно было бы придумать что-нибудь более несообразное и неожиданное: дикая глушь Центрального Тян-Шаня, нигде ни души и - валяющиеся городки. Правда, загадка разгадалась очень просто: оказалось, что незадолго до нашего приезда здесь была стоянка военного топографа, и его солдаты, вероятно, какие-нибудь рязанцы или вологодцы, в свободное время развлекались любимой игрой.
В эту же экспедицию нам пришлось встретиться и еще с одной, еще более удивительной диковиной: среди пустынной горной равнины, на берегу реки Текес, тоже никем не населенной, мы вдруг увидели огромных размеров… уборную с высоченной вытяжной трубой.
Уборная была новенькая, выкрашенная и совершенно чистенькая. В те времена люди, которые изредка заглядывали сюда, вероятно, и не подозревали, для чего такие сооружения строятся. Каким образом и зачем появилась здесь эта уборная, эту загадку объяснить нам, как следует, уже никто не мог.
Как раз в эту экспедицию я впервые встретился с Садырбеком и Султанбеком, главным же проводником у нас был третий замечательный киргиз - Кудакельды Кылдаев. Профессиональный проводник, он служил почти во всех экспедициях, посещавших Тян-Шань: у Мерцбахера, Алмаши, принца Баварского, Сапожникова и других.
Кроме того, он был охотником на зверя и великолепно знал в Тян-Шане все горные тропы и броды. Спокойный, мало разговорчивый, он с такой уверенностью вел караван, всегда так безошибочно предсказывал, что мы должны будем встретить в пути, что вызывал к себе полное доверие; с ним можно было чувствовать себя в полной безопасности.
Очень высокий ростом, Кудакельды имел атлетическое сложение и обладал огромною физической силой. Однажды, когда у нас одна вьючная лошадь оборвалась на узкой тропинке и начала катиться вниз по крутому склону, Кудакельды мгновенно соскочил со своей лошади, бросился к упавшей и задержал ее, пока не подбежала помощь.
Рассказывали, что у его соседа упала в яму корова. Яма была не очень глубока, но с отвесными стенами, и сколько ни бились люди, ни никак не удавалось вытащить корову. Тогда подошел Кудакельды, отстранил всех, нагнулся, взял корову за хвост и один вытащил ее.
А однажды ему пришлось применить свою силу в обстановке, когда дело могло кончиться для него трагически. Компания охотников киргиз пробиралась где-то в горах в таком месте, где никакого зверя не ожидали, и потому все шли без всяких предосторожностей и с ружьями за спиной; Кудакельды, замечательно ходивший по горам, далеко опередил других и шел один.
И вдруг на повороте тропинки из-за скалы на него бросился и обхватил его медведь, с которым он столкнулся носом к носу. Известно, что даже самые мирные медведи, к числу которых принадлежат и тяншанские, иногда бросаются на человека, когда тот натолкнется на них вплотную и они видят, что им деться некуда.
Однако Кудакельды не растерялся. Находясь в объятиях медведя, он не только устоял на ногах, но и сам, сжав зверя в своих, тоже достаточно «медвежьих», объятиях, начал душить его. При этом он проявил такую силу, что ему удалось продержаться до момента, пока подоспели товарищи, которые и убили медведя.
Правда, эта борьба Кудакельды обошлась не дешево - он около трех недель пролежал в больнице, так как медведь его сильно поранил и зубами, и когтями. Но отделаться только этим в единоборстве голыми руками с таким могучим противником, как медведь, мог, конечно, только человек исключительной силы.
Кудакельды был еще в большей степени жителем и фанатиком гор, чем Садырбек и Султанбек: когда я его пригласил принять вместе с его приятелями участие в моей экспедиции в Алакульскую равнину, он самым решительным образом отказался.
Вторая половина экспедиции протекала среди особенно суровой горной природы, а я тогда еще не умел достаточно обеспечивать себя для борьбы с нею. Да и считал, что в экспедиции так в экспедиции: долой всякий там комфорт и тому подобные нежности!
Позже, наученный не особенно приятным опытом, я изменил свое мнение на этот счет и стал ездить с большими удобствами, которые теперь уже считаю не «нежностями», а необходимостью. Тогда же мне иногда приходилось туговато.
Я, например, с презрением отверг даже походную кровать, не подозревая, с чем мне придется столкнуться на больших высотах. У меня было с собою только большое меховое одеяло, которое служило мне всем: его я клал на землю, ложился на него, им же укрывался.
Но как оно ни было велико, все же при моем росте для ног его уже не хватало. И когда, например, в верховьях долины Челкуде мы приехали к месту ночлега уже в полной темноте и под дождем, моя ночь была не очень веселая.
Палатка была расставлена среди высокой - выше колена - травы, которую целый день и весь вечер поливал дождь. И прямо в эту траву я должен был укладываться со своим одеялом-постелью, причем ничем не укрытые ноги в мокрых насквозь сапогах лежали всю ночь прямо в такой же мокрой, холодной траве.
А если добавить к этому, что температура воздуха была разве что градуса на 3 - 4 выше нуля, то легко будет понять, что спал я в эту ночь не слишком крепким сном и снилась мне отнюдь не жаркая пустыня. Ноги у меня не просыхали ни днем, ни ночью по нескольку дней подряд, а ночевать иногда приходилось и при температуре ниже нуля, когда в палатках замерзал чай.
Но самое замечательное это то, что никто из нас ни разу ничем не заболел - настолько идеально чист воздух на этих высотах: никаких болезнетворных бактерий. Только в долинах Иныльчека и Каинды мы на время согрелись, так как обе эти долины, несмотря на большую высоту над уровнем моря (2500 - 3000 метров), обладают очень мягким климатом.
Так или иначе, но в эту экспедицию я познакомился, наконец, с самыми настоящими высокими горами, с их ледниками, перевалами, скалами и альпийскими лугами, а кстати и почувствовал, что значит путешествовать на больших высотах.
Узнал, что такое горные тропы Тян-Шаня. Проезжал верхом в таких местах, где на подъеме приходится чуть ли не держаться за гриву лошади, а на спуске лошадь передвигается, почти сидя на хвосте, или прыгает по огромным естественным каменным ступенькам, и вы рискуете каждую минуту слететь вперед через ее голову.
Очень часто случалось ехать по карнизам, по которым едва проходит вьючная лошадь, или спускаться по каменным осыпям, которые ползут под ногами лошадей, или же, наконец, черепашьими шагами ползти с караваном на таких высотах, где даже привычные горные лошади останавливаются отдохнуть через каждые несколько шагов.
В этом отношении моя первая высокогорная экспедиция оказалась замечательной тренировкой, и в следующую, гораздо более значительную по маршруту высокогорную экспедицию 1913 года, когда нам пришлось пройти 15 перевалов, меня уже ничем нельзя было удивить - настолько мне все казалось привычным и знакомым.
Должен, впрочем, сказать, что ничего действительно опасного и трудно преодолимого, вроде прославленных таджикских оврынгов, при поездках по Тян-Шаню не встречается, кроме, как я уже говорил, переправ через горные реки.
Для непривычных людей во многих местах может быть страшно; на карнизах может кружиться голова, и есть подъемы и особенно спуски крайне тяжелые и утомительные для всякого. Но достаточно положиться на лошадь, не мешать ей, и можно спокойно путешествовать, ничего не опасаясь.
К страху быстро привыкают, а в утомительную верховую езду по крутым подъемам и спускам постепенно втягиваются. Зато вместо нестерпимого однообразия и однотонности полынной степи или солонцов здесь перед вами на каждом шагу, за каждым поворотом тропинки, на каждом перевале открываются все новые и новые картины, одна другой живописнее, эффектнее и грандиознее.
И кто раз побывал в горах, тот вряд ли променяет их на какие бы то ни было степи, даже описанные Гоголем. Эта экспедиция познакомила меня с новым для меня миром обитателей больших высот - птицами и млекопитающими: бородачом, бурым и гималайским грифами, высокогорными вьюрками, горным жаворонком, серпоклювом, великолепной большой горихвосткой, горными завирушками и другими, а из млекопитающих - с горным козлом, архарами, тяншанской и каменной полевками, сурками, большеухим сеноставцем.
В следующем году я за лето успел совершить две больших экспедиции: одну в Прибалхашье - ту самую, благодаря которой я раздобыл, наконец, неуловимую сойку, другую - снова в хребты Тян-Шаня, но уже в новые моста. В общей сложности наши экспедиционные лошадки прошли за лето свыше трех тысяч километров.
На этот раз со мною в горной экспедиции были опять Кудакельды и Садырбек, так что можно было ездить совершенно спокойно, ни о чем не заботясь. Эти два человека умели все и всегда предусмотреть, обо всем позаботиться и принять все нужные меры для безопасности в пути и для успешного движения экспедиции.
А Садырбек с первых же дней поездки столько раз удивлял меня, что я потом и удивляться перестал. Перед тем, как мы должны были попасть в какое-нибудь новое место, он заранее говорил, что там мы добудем такую-то птицу.
И едва мы приезжали, как он брал ружье и через некоторое время приносил обещанную птицу - настолько хорошо он знал свои горы и их животный мир. Хотя в предыдущем году я порядочно поездил по горам и моя коллекция птиц тоже была уже довольно приличная, но на этот раз она все-таки пополнилась рядом тогда новых для меня видов: синей птицей, одним из ремезов, желтогрудой лазоревкой, овсянкой Стюарта, монгольской ржанкой и другими.
Из млекопитающих особенно интересного ничего уже не попадалось, кроме одного вида суслика, который в то время еще не был даже известен науке и впоследствии был описан под названием реликтового. Кроме того, я впервые познакомился с другим нашим сурком - длиннохвостым.
В эту же поездку были встречены и собраны те два вида горных ящериц, о которых я рассказал раньше и которые рождают живых детенышей: алайский аблефар и глазчатая ящурка. Кроме них новыми для моей коллекции были пустынный аблефар и ящурка Никольского.
На этот раз экспедиция захватила южную окраину Семиречья, и соседство жаркой Ферганы уже чувствовалось: по утрам мы на высоте 1700 метров над уровнем моря находили под кошмой в своей палатке фаланг и скорпионов.
В знакомых мне до того местах эти паукообразные в настоящие горы совершенно не заходят. В следующие годы – 1914 - 1917 - я работал уже стационарно, т. е. все лето в каком-нибудь одном, сравнительно небольшом районе.
Первые два года - в Алакульской равнине, последующие - на Каратале. На Каратале ничего особенно интересного не было, об Алакульской же равнине стоит кое-что рассказать. Прежде всего, здесь очень обогатилась моя коллекция птиц, так как через Алакуль проходит большой пролетный путь, по которому осенью в неисчислимом количестве летят разнообразнейшие кулики и утки.
А так как в 1914 году у меня здесь были такие помощники, как Садырбек и Султанбек, то понятно, что пролетавшие гости недосчитались очень многих из своего числа, и большинство из них можно было потом найти в моей коллекции.
Она за это лето увеличилась настолько, что здесь невозможно перечислить даже самых главных из числа пополнивших ее птиц. Млекопитающих я собирал уже тщательно, собрал очень много, и среди них было несколько очень интересных.
Самым интересные был один новый тогда для науки тушканчик, которого я собрал несколько штук и который только лет через 15 был описан под названием тушканчика Житкова. Нашел я здесь также малого суслика и еще некоторых зверьков, которые до тех пор для Семиречья были неизвестны.
В 1914 году в Алакульской равнине было несколько тревожное настроение, вызванное необычайным размножением в то лето каракуртов. То и дело рассказывали об укушенных каракуртом людях и говорили, что от этих пауков прямо спасения нет.
Рассказы эти, как это бывает обычно, были сильно преувеличены, но все-таки не все в них было выдумкой: три достоверных случая укушения каракуртом были известны и мне. Старик казах умер через час или два; взрослый крестьянин был очень тяжело болен, 3 недели лежал при смерти, но затем все-таки поправился; и, наконец, молодая девушка, укушенная во время жатвы за палец, отделалась совсем легко.
Но количество каракуртов было действительно огромно. Я как-то нашел гнездо каракурта между двумя вьючными ящиками у себя в палатке. Несколько раз каракуртов находили у себя в палатках гидротехники нашей изыскательной партии, а одному из них каракурт забрался под рубашку.
Несчастный юноша, когда узнал, кто у него ползает по телу, стоял ни жив ни мертв и замер, как окаменелый, пока его товарищ со всеми предосторожностями, чтобы не придавить паука, снимал с него рубашку. После всех этих случаев я стал тщательнейшим образом осматривать не только то место, где должна была быть поставлена палатка, но и степь вокруг нее.
Предосторожность эта оказалась далеко не лишней: однажды я около палатки на площади диаметром в несколько десятков метров нашел двадцать гнезд каракурта. Понятно, такое милое соседство было не из приятных, и я истреблял всех находимых пауков вместе с их коконами без всякой жалости.
В гнездах каракурта, среди высосанной добычи я находил крупных жуков, тарантулов, фаланг и скорпионов. Но это было какое-то исключительное размножение каракуртов: больше я нигде и никогда ничего подобного не встречал. Интересно, что в той же Алакульской равнине на следующее лето никаких разговоров о каракуртах не было слышно, и эти пауки уже совершенно не обращали на себя внимания, настолько их было мало.
5. Опасности настоящие и мнимые.
3десь я кстати, коснусь тех мнимых и настоящих опасностей, с которыми связаны путешествия в Семиречье. При поисках насекомых под камнями или какими-нибудь другими лежащими на земле предметами вместо насекомых часто попадаются фаланги и скорпионы.
Они же являются по вечерам на огонь, забираются в палатку, а утром вы нередко находите их под кошмою, спальным мешком, в ботинках, в белье, под подушкой или в платье, куда они спрятались для того, чтобы провести день.
Эти создания многим представляются страшилищами, из-за которых жутко и показаться в степи. Меня часто опрашивали:
«Как это вы не боитесь постоянно ездить по пустыням, спать в палатке, а иногда и под открытым небом прямо на земле; ведь там на каждом шагу тарантулы, скорпионы, смертельно опасные фаланги, змеи?!..»
На это я всегда отвечал, что черт не так страшен, как его малюют, и что все это не так страшно, как мерещится новичкам. Во-первых, все эти «страшилища» встречаются далеко не «на каждом шагу», а в иные годы являются даже редкостью.
Например, в 1939 году за два с половиной месяца жизни в степи, в песках и солонцах, мы встретили всего двух скорпионов и не встретили ни одной ядовитой змеи. Во-вторых, укус здешнего скорпиона вовсе не так опасно, как это кажется многим.
Оно, правда, болезненно, укушенная рука сильно опухает до плеча, но и только; опухоль проходит довольно скоро, о смертельной же опасности, конечно, не может быть и разговора. Приблизительно такие же последствия и укушения тарантула. Фаланга же даже и вообще не ядовита, и только отвратительна на вид и пугает длинными, волосатыми ногами и огромными стремительными прыжками.
Своими подвижными, острыми зазубренными челюстями она, правда, может нанести довольно неприятную рваную рану, но рану эту достаточно тщательно промыть и смазать йодом, чтобы не опасаться никаких последствий.
Ядовитых желез у фаланги нет, а рассказы о каком-то трупном яде, которым она будто бы заражает укушенного, - чистая басня.
Я знал многих людей, которых не однажды кусала фаланга, и ни разу они не собирались умирать. Однако есть все-таки в Семиречье два животных, укушение которых очень опасно и может быть даже смертельно. Это - змея щитомордник и паук каракурт. Я сам знал смертельные случаи укусов как тем, так и другим.
Но и щитомордник и каракурт людей кусают все-таки редко. Щитомордник сам никогда не нападает и при приближении человека спешит вовремя уползти подальше. Бывает, впрочем, что он зазевается или слишком разленится, лежа на солнышке, и тогда случается иногда натолкнуться на него вплотную где-нибудь на дорожке или в густой траве.
Если на него при этом наступить, то он, конечно, может укусить. И при отсутствии на ногах подходящей обуви последствия могут быть печальными. Были также случаи, что щитомордник ночью кусал спавших на земле людей, нечаянно придавивших его во сне. Но все же такие случаи очень редки.
Еще реже кусает людей каракурт. Этот паук никогда не покидает своего гнезда, расположенного всегда у самой земли в ямке, при входе в норку, под камнем, у основания кустика полыни. И надо потревожить его в гнезде, чтобы он укусил человека.
Случается это, обыкновенно, если человек в темноте ляжет спать прямо на земле и попадет как раз на гнездо каракурта. Понятно, что это случается не часто. Гораздо чаще он кусает пасущихся лошадей и скот, и здесь укусы обыкновенно бывают как раз в губы.
Укушение второй нашей ядовитой змеи - степной гадюки - не опасно и, как мне говорили потерпевшие, даже не особенно болезненно. Вот, собственно, и все те, больше воображаемые, чем действительные «ужасы» путешествий, о которых особенно любят говорить.
О настоящей же опасности, которая может в действительности грозить путешественнику и поэтому несомненно заслуживает внимания, обыкновенно никто и не вспоминает. А между тем, в сущности, она одна только всегда и существует.
Это - опасность быть унесенным бурным потоком при переправе верхом через горные реки. Здесь достаточно лошади оступиться и упасть хотя бы только на колени, как и лошадь, и всадник подвергаются смертельной опасности. Даже прекрасный пловец здесь беспомощен, прежде всего благодаря тому, что бешеные горные потоки завалены бесчисленными каменными глыбами, о которые стремительное течение будет непрерывно со страшной силой бить плывущего.
И если он не будет сразу же убит, его настолько изобьет о камни, что он лишится сил и все равно погибнет, захлебнувшись. Если бы ему даже посчастливилось на мгновение справиться с течением и стать на ноги, его в следующую минуту все равно неизбежно собьют с ног огромные камни, которые в таких случаях река с глухим грохотом перекатывает по дну.
Кстати, этот характерный глухой шум перекатываемых камней, доносящийся из воды, является хорошим признаком, предупреждающим о необходимости быть осторожным. Наконец, вода в горных реках настолько холодна, что долго выдержать пребывание в ней невозможно.
Я знаю случай, когда человек работал, стоя в неглубокой воде около самого берега и перехватывая плывущие по реке бревна, чтобы передавать их работавшим на берегу товарищам. Все шло прекрасно до тех пор, пока он как-то не оступился и не упал.
Несмотря на то, что он был у самого берега и что рядом находились товарищи, которые, казалось бы, могли ему помочь, его настолько быстро подхватило бурлящим потоком, что никто и очнуться не успел, как несчастного било о камни уже где-то далеко от места работ.
Только на следующий день нашли его изуродованный труп, выброшенный волнами на отмель. Такова сила горных речек. Между тем, без постоянной переправы через них невозможно обойтись при путешествии в горах. И тут необходимо строго придерживаться правила: ни под каким видом не рисковать переправляться через крупные горные реки без опытных местных проводников.
Таких проводников везде можно найти, и они всегда прекрасно знают места переправ и время, когда в том или ином месте переправляться легче всего и когда, наоборот, ни о какой переправе и думать нельзя. Дело в том, что в горных речках уровень воды и в течение суток, в зависимости от таяния ледников и снегов, очень сильно меняется, и для каждого места реки есть свой определенный час, когда вода особенно мала.
Этот момент и надо ловить, а точно указать его могут только местные жители, так как по виду реки далеко не всегда можно правильно судить о степени опасности, и путешественника в горах очень часто ожидают неприятные сюрпризы.
Вы пробираетесь со своим караваном по горным тропинкам и с удовольствием заранее представляете себе, как остановитесь на ночлег в намеченном вами месте с хорошею водою, еще лучшим пастбищем для лошадей и специально интересной для вас лично природой.
Выехали вы сегодня вовремя, обычный 25 - 30-километровый переход сделаете шутя и успеете перед вечером еще поохотиться и поколлектировать. Но… для того, чтобы добраться до намеченного места, вам надо предварительно переправиться через лежащую по пути реку.
Судя по карте, речонка плевая, так что о ней можно было бы и не думать. Но она, черт возьми, все-таки берет начало в ледниках, а это уже всегда ненадежно. Сегодня же как раз целый день ясно и как-то не в меру жарко. Подъезжая к месту переправы, вы уже издали слышите подозрительно сильный шум, и, если вы человек опытный, шум этот заставляет вас с сомнением покачать головой.
Но вот вы у реки, и ваши сомнения в возможности переправы вырастают сразу во много раз: перед вами вместо плевой речонки огромная бурная река, с бешеной скоростью несущаяся по ущелью. Ясный жаркий день сделал свое дело: сильное таяние ледников совершенно преобразило реку.
Вы обращаетесь к местным жителям, которые должны помочь вам при переправе, и они окончательно разочаровывают вас, категорически заявляя, что теперь о переправе не может быть и речи. А когда так говорят горные киргизы, это значит очень много.
Они в таких случаях отличаются исключительным бесстрашием, замечательным умением бороться с водою, превосходным знанием всех бродов и имеют лошадей, поразительно приспособившихся к переправам через горные реки.
И если отказываются они, то вам остается только сложить оружие и так или иначе примириться с обстоятельствами. Вы отдаете распоряжение развьючивать и располагаетесь лагерем где-то на совершенно голом берегу реки, среди абсолютно неинтересной местности, и, вдобавок, нарушаете тщательно разработанный маршрут.
И это может случиться не раз и не два в течение экспедиции, так как невозможно знать заранее для каждого пункта всех рек те моменты, когда переправа в том или ином пункте возможна и когда она невозможна. Ведь эти моменты различны даже в одни и тот же день для разных мест реки, в зависимости от расстояния до ледников.
Тем более невозможно заранее знать погоду, от которой здесь все так сильно зависит. И подчас приходится останавливаться очень задолго до вечера, чтобы ждать нужного часа следующего дня. А это бывает в одном месте рано утром, в другом - в 10 - 12 часов дня.
Горные, реки умеют шутить даже в таких местах, где этого, казалось бы, совершенно невозможно ожидать. Я знаю, например, довольно курьезный случай с одним моим сослуживцем. Он ехал в экипаже по большой почтовой дороге и, подъехав к станции Сарыбулак, на которой собирался ночевать, мог только полюбоваться ею.
Станция мирно стояла всего в какой-нибудь сотне метров от него, но стояла на другом берегу речонки. Речонка эта в обычное время была настолько ничтожна, что на ней не было даже моста, и ее переезжали, едва замочив колеса.
Теперь же, благодаря сильному таянию снегов в горах в жаркий весенний день, перед путником был бурный поток, о переправе через который даже в большом тяжелом тарантасе, запряженном тройкой лошадей, нечего было и думать.
И мой приятель должен был провести всю ночь в экипаже в печальном ожидании спада воды к утру. На его счастье, ночь была холодная, таяние снегов в горах прекратилось, и на утро перед ним вместо бурного потока опять был ручей, через который курица вброд перейдет.
Вторая серьезная опасность всегда грозит путнику в песках, если он неосторожно вздумает отойти от своего каравана. Это - опасность заблудиться. Нет другой природной обстановки, среди которой было бы так легко потерять направление, как среди волнистых песков.
Горизонта никакого нет: вы видите кругом лишь все одни и те же бесконечные песчаные холмы, как две капли воды похожие одни на другой. Правда, в действительности они не так уж все совершенно одинаковы: один повыше, другой пониже, одни более круглый, другой более вытянутый; на вершине одного растет кустик дюзгена, на вершине другого - кустик саксаула.
Но среди десятков и сотен окружающих вас песчаных бугров - столько и круглых и вытянутых, более высоких и менее высоких, с дюзгеном и с саксаулом, что разобраться в том, которые же из них вы видели и заметили, - невозможно.
Да и отличия между ними не в состоянии сохранить никакая память, настолько они ничтожны и однообразны. Нигде нет ни одной приметы, которую можно было бы заметить на большом расстоянии. Сотня, а то и несколько десятков шагов во все стороны - вот все, что вы можете видеть.
Даже если попадется какой-нибудь особенно высокий песчаный бугор, то и с него вы увидите кругом все те же однообразные волны песков и - больше ничего. Правда, на песке остаются ваши следы. Но это - спасение только при тихой погоде.
Стоит подняться небольшому ветерку, как следы начинают быстро сглаживаться, при сильном же ветре они исчезают бесследно уже через несколько минут. И если вы ушли в штиль, надеясь на следы, прозевали момент возникновения ветра, а между тем уже успели забраться далеко, то вы подвергаетесь опасности неизмеримо более серьезной, чем опасность от всех скорпионов, каракуртов и змей, вместе взятых.
Самые последние свои следы вы еще найдете, более же ранние окажутся исчезнувшими. И тут вас может спасти только случайность, если вы не обладаете совершенно исключительной способностью ориентироваться, позволяющей вам без всяких примет никогда не терять направления.
Здесь страшно еще и то, что при отсутствии горизонта, даже идя более или менее правильно, вы можете пройти совсем близко около лагеря, не заметив его среди бугров. А затем уже неизбежно будете итти, с каждым шагом все больше и больше удаляясь от него, будучи в то же время уверены, что приближаетесь.
Пока, наконец, не поймете, что вы заблудились. Именно такой случай произошел с моим спутником по второй балхашской экспедиции Н. И. Мекленбурцевым. Он не прошел мимо лагеря и не заблудился окончательно только благодаря тому, что вовремя спохватился и остановился на месте, ожидая условных сигналов выстрелами, по которым и добрался до лагеря, но уже ночью.
Если бы он вовремя не остановился, а продолжал итти, то потом не услышал бы уже и выстрелов, так как шел действительно мимо стоянки. И неизвестно, удалось ли бы нам разыскать его на следующий день, если бы с утра подул ветер.
Поэтому людям со средней ориентировочной способностью необходимо соблюдать в песках крайнюю осторожность. Начиная с 1914 года, я уже зимою жил в Петербурге и только на несколько весенних и летних месяцев приезжал на работу в Семиречье.
Так продолжалось до 1917 года, когда меня в Семиречье захватили события гражданской войны, нарушившие правильное сообщение. Зимою 1917 - 1918 годов для того, чтобы выехать из Верного, надо было запасаться всевозможными пропусками и другими документами, доставать которые не всегда было легко.
Но вот 27 декабря 1917 года я раздобыл, наконец, все документы и возвращался домой, чтобы завтра или послезавтра тронуться в путь. И в этот момент произошел пустой, маленький случай, какие бывают с каждым сплошь да рядом.
Я поскользнулся на обледеневшем тротуаре и упал. Но так как я ходил всегда страшно быстро и обладаю очень высоким ростом, то сила падения была настолько велика, что я вывихнул и сломал себе ногу в тазобедренном суставе.
Прохожие подняли меня, довезли до дома, немедленно был приглашен хирург. К несчастью, в Верном в то время не было рентгеновского кабинета; хирург не нашел перелома и лечил меня только от вывиха. Полтора месяца я пролежал в постели, полгода ходил на костылях и, в конце концов, только через 2 года узнал, что у меня была сломана нога.
Срослась она у меня, как ей вздумалось, совершенно неправильно, и в итоге я остался на всю жизнь инвалидом. Я не останавливался бы так долго на этом случае, если бы, благодаря ему, у меня не оказалась перестроенной вся жизнь.
Ни о каком намеченном отъезде из Верного теперь не могло быть и речи надолго. А тем временем всюду образовались разные фронты, и Верный на целые два года оказался лишенным даже почтовой связи с центром. В конце концов, мне удалось вернуться в Петербург вместо осени 1917 года, как я предполагал, только в марте 1922 года.
Этот несчастный случай не только изменил мою личную жизнь, но и отозвался на всей моей дальнейшей научной работе. Я теперь могу ходить только с палкой, да и то очень немного. Никакие большие экскурсии пешком для меня теперь невозможны.
Птицы стали совершенно недоступны, так как хожу я настолько медленно, что не мог бы угнаться ни за одной перелетевшей с места на место птицей. Пришлось о птицах почти забыть и довольствоваться случайными наблюдениями, когда птица сама подвернется, и такой охотой, как охота с лодки, когда ноги не нужны.
Даже пресмыкающиеся стали теперь не для меня: за какой-нибудь разноцветной ящуркой и то мне уже не угнаться, не говоря о ящурке быстрой, а тем более о скаптейрах. Разве только змеи и остались, да и из них надо исключить стрелу.
Но все же я расстался с птицами не совсем. За прежние годы у меня накопились не только шкурки, но и многочисленные записи наблюдений в дневниках. Кроме того, теперь, когда я птиц знал уже хорошо и огромное большинство мог точно определять на расстоянии, даже случайные встречи во время моих последних поездок часто давали мне интересные данные или дополняли прежние наблюдения.
Но все это уже не то. Я мог приводить в порядок свои старые записи, с грехом пополам немного пополнять наблюдения, но коллекция моя расти перестала, и на появление в ней когда-нибудь самых интересных и редких, а потому трудно дающихся в руки птиц и должен был оставить всякую надежду.
Я ее оставил, но все-таки нашел такие занятия, которые оказались мне по силам. Правда, первые полгода, когда я ходил на костылях и совсем и не мог ступать на сломанную ногу, мне нельзя было и думать о работе среди природы.
Но наступил момент, когда - с двумя палками - я уже мог кое-как ходить по саду. А сад при доме, где я жил в то время, был великолепный, очень большой и достаточно запущенный; в нем было много преуютных уголков, густых зарослей кустарников и высокой, в рост человека, травы.
Все это было мне доступно, и я возобновил занятия, когда-то начатые мною в Верном в саду брата: занялся собиранием материала по биологии насекомых. Особенно меня заинтересовали такие, которые паразитируют на других насекомых и на пауках.
Разыскивая в саду всевозможных личинок, куколок и коконы, я помещал их в стеклянные пробирки и затем наблюдал, что будет дальше. Возьмешь, например, куколку божьей коровки, положишь в пробирку и ждешь, какая же именно коровка выведется из этой куколки.
И вдруг выходит вовсе не божья коровка, а в пробирке рядом с куколкой божьей коровки на утро появляются какие-то странной формы коричневые крошечные коробочки, из которых затем вылезают маленькие мушки. Из куколки же божьей коровки ничего не выходит, и она оказывается пустою - выеденною личинками мушек.
Из яиц древесного клопа выведутся то клопики, то маленькие оски. Еще более крошечные оски выводились у меня из интереснейших яичек златоглазки, или зеленоглазки. Эти насекомые откладывают свои яички совсем необычным образом: каждое яичко находится на кончике длинного волоска, другим концом прикрепленного к листу дерева или куста.
Прикрепляются волоски всегда по нескольку штук недалеко одни от другого и стоят прямо, напоминая миниатюрные грибы на очень длинной ножке и с крошечной шапочкой. Если с яичками златоглазки все обстоит благополучно и никакие бандиты на них не нападали, то роль бандита иногда исполняет первая вылупившаяся личинка златоглазки: едва вылупившись, она немедленно спешит к ближайшему волоску, взбирается по нему до яичка, которое и высасывает.
Покончив с одним, она спускается вниз, бежит к следующему волоску и там проделывает с яичком ту же историю. И так до тех пор, пока не уничтожит все яички, после чего только отправляется дальше по своим делам. Но не всегда личинке златоглазки суждено, едва родившись, пожрать всех братьев и сестер.
Нередко бывает, что ей самой не удается и родиться: мельчайшие, с трудом видимые простым глазом оски, найдя яички златоглазки, откладывают в каждое из них по одному своему яичку, и личинки оски, которые вылупляются очень быстро, поедают яички златоглазки, оставляя от них одни только пустые скорлупки.
Так не спасают яичек златоглазки от гибели от тех или других разбойников никакие хитроумные способы: длинный, тончайший волосок, яичко висит в воздухе, да и само такое крошечное, что как его заметить? кому нужно - находят и добираются до него.
Многим, вероятно, случалось находить на траве или на кустах белый комочек, совершенно похожий на клочок ваты, или точно такой же комочек, но желтый. Попробуйте поместить такой комочек в пробирку и последить за ним. через несколько дней, взглянув на пробирку в лупу, вы увидите в ней настоящий сумасшедший дом.
Пробирка все больше и больше наполняется вылезающими из комка ваты тоненькими стройными длинноусыми наездничками. И каждый из них немедленно по вылуплении начинает, как безумный, носиться по пробирке взад и вперед, гоняясь за другими или удирая от них.
В глазах рябит от их дикой беготни, и уследить за каким-нибудь из них отдельно невозможно. Комок ваты - это общая шелковистая оболочка, которой окружены многочисленные кокончики, из которых и вывелись наши «длинноусые».
А пока они были еще личинками, они жили в теле какой-нибудь гусеницы, которою и питались. Однако так, что не убивали ее, и она умирала только после того, как личинки наездников уже покинут ее. Покидают же они гусеницу, вылезая прямо сквозь стенки ее тела и тут же, на ней, немедленно делают свои кокончики и «вату».
Иногда этот комок «ваты» так на гусенице и остается, большею же частью у нее хватает еще сил отползти, и «вата» остается одна на растении. Если вы встретите вялую, едва ползающую гусеницу и посадите ее в пробирку, то иногда вам удастся увидеть, как личинки вылезают из нее и делают коконы.
На листьях или стеблях растений, особенно в таких местах, где расположились тли, нередко можно встретить странную, очень похожую на крошечную пьявку, личинку. Это - личинка цветочной мухи сирфиды. Она принадлежит к числу наших больших друзей, так как является злейшим врагом тлей.
А тли, как известно, принадлежат к числу вреднейших насекомых. Встретив такую личинку, посадите ее в пробирку, дайте ей веточку с тлями и посмотрите, как она будет с ними расправляться. Заметив тлю, она хватает ее передним концом тела и начинает высасывать, держа ее высоко в воздухе.
Очень быстро высосав жертву, она сморщенную, пустую шкурку отбрасывает прочь, как ненужную гадость, и хватает следующую тлю, уничтожая их одну за другой, и так же небрежно швыряя съеденных, пока не насытится. Так же беспощадно расправляется с тлями другой их враг - личинка златоглазки, впрочем, как мы уже знаем, начинающая свою жизнь даже с братоубийства.
Не отстают от этих личинок в деле истребления беззащитных тлей также личинки божьих коровок. Всех этих личинок легко воспитывать в пробирках, так как их очень просто кормить. Но интереснее отыскивать коконы или куколки этих насекомых, так как тогда у нас нередко будет выводиться из них вовсе не тот, кого мы ожидаем, а самые разнообразные и неожиданные другие насекомые.
Среди коконов, которые попадали в мои пробирки, сотнями лежавшие на столе, было много коконов различных пауков. дни я находил в свернутых листьях, другие под отстающей корой деревьев или в кучах камней; третьи в паутинных гнездышках, устроенных где-нибудь в траве или на ветке куста, четвертые даже просто в паутине на стене дома или где-нибудь в углу.
Наконец, некоторые бегающие пауки никогда не расставались со своими коконами и вечно таскали их с собой, прикрепив к концу своего брюшка. Некоторые коконы были устроены в виде клубка из паутины, внутри которого лежали яички; другие имели форму шарика и казались сделанными из серой бумаги, третьи представляли собою просто круглую беленькую крышечку, закрывавшую сверху кучку яичек.
Наконец, попадались и замечательно искусные сооружения в виде аккуратненьких пузатых бочоночков, закрывавшихся плотною подогнанной плоской крышечкой. Когда паучата вылуплялись, они, как царевич Гвидон, вышибали изнутри крышку и выходили из своей темницы.
Паучки выходят из яичек большей частью совсем не такими по наружности, какими они будут, когда вырастут. Пока растут, они много раз линяют, меняя при этом не только окраску, но иногда даже и форму тела. Белый паучок вдруг превращается в черного, а после какой-нибудь из следующих линек становится серым или каким-нибудь еще другим.
Все эти изменения наряда известны для очень немногих пауков, и я решил заняться воспитанием паучат, тем более, что с ними хлопот немного. После того как паучата вылуплялись, я клал в пробирку побег яблони с теми же многострадальными тлями, и паучки быстро соображали, для чего тли попали в пробирку.
Впрочем, они не особенно церемонились и друг с другом: те, что посильнее, нередко поедали слабеньких, так что иногда в конце концов из целого огромного семейства оставались в живых 1 - 2 паучка. От времени до времени я клал паучат в спирт, и, таким образом, у меня накоплялся материал по смене нарядов у очень многих пауков.
Впоследствии все эти коконы, гнезда и паучата вместе с пауками, которых я собирал в экспедициях, дали возможность профессору С. А. Спасскому написать большую статью о пауках Семиречья. Но иногда и паучиные коконы подносили мне сюрприз: вместо паучат в пробирке вдруг оказывались какие-нибудь наездники, личинки которых выросли на питательном корме из паучиных яиц.
Так, даже почти лишенный возможности двигаться, я все-таки нашел себе интересное занятие и собрал очень большой, ценнейший в научном отношении, материал. Понадобилась бы целая книжка, чтобы только перечислить всех моих тогдашних пленников и все те наблюдения над ними, которые я сделал в моих пробирках.
И все это только в саду при нашем доме и в одном из соседних. Так что смело можно сказать, что при желаний и при интересе к делу всегда можно найти себе занятие по изучению природы. (Эта маленькая справка покажет, что даже неспециалист может находить очень ценный научный материал.
Я очень мало знаком с насекомыми и еще меньше с другими беспозвоночными. Но по моим сборам специалистами описано очень большое количество новых для науки насекомых. Кроме насекомых, описаны новые многоножки, пауки, ложноскорпионы, моллюски.
Описано даже одно паукообразное, принадлежащее к редчайшему отряду, для которого до того было известно только по одному виду из Алжира, Аравии и Ю. Америки; теперь прибавился четвертый - из Тян-Шаня). У меня же и самый интерес всегда быстро рос по мере того, как я занимался какой-нибудь новою для меня группой животного мира.
Даже растения меня увлекли в Михалеве, когда я стал поближе знакомиться с ними. Но и в это первое, самое трудное время моей инвалидности меня заняли не одни только насекомые и пауки: мелкие зверьки нашлись в нашем саду и даже у нас в доме.
Для ловли их не нужно ни быстроты, ни подвижности: нагнуться, поставить ловушку и наутро осмотреть ее - все это мог делать и я. Правда, о разнообразии добычи тут уж говорить не приходилось; лесная и домовая мыши, илийская белозубка, да обыкновенная полевка и хомячок - вот и все звери нашего сада.
Но и они мне доставили удовольствие, развлечение, а вместе с тем дали и большой коллекционный материал. А тут как раз подоспело интересное явление в жизни зверьков: мышиное нашествие. Перед началом нашествия у меня в комнатах попадались в капканчики 1 - 2 мыши.
Затем вдруг число попадавшихся стало необыкновенно быстро увеличиваться, и, наконец, я стал ловить у себя по 30 и даже 35 мышей в день! Так продолжалось довольно долго, после чего количество мышей в ловушках стало уменьшиться и опять вернулось к первоначальной цифре 1 - 2.
Однако за полтора месяца я успел поймать у себя около 1000 штук! Это было не просто сильное размножение, какое иногда бывает у мелких зверьков в благоприятные для них годы, а именно нашествие. Мыши шли откуда-то и направлялись дальше, сменяя одни других.
За городом люди видели, как они днем десятками бегут по полям, садам и огородам и двигаются все в одном и том же направлении. Даже в городе можно было видеть днем мышей на улице или во дворе, и в это время на них охотились не только кошки, но и утки, индюшки и даже куры.
Забавно было видеть, как такая мирная птица, как курица, вдруг превращается в кровожадного хищника и с увлечением носится по двору, гоняясь за удирающей мышью. А вороны и сороки по утрам регулярно являлись к моему крыльцу, так как я каждое утро выбрасывал им накопившихся за ночь мышей после того, как достаточно собрал их для коллекции.
При этом смешно было смотреть, как неповоротливые и более осторожные вороны долго раздумывали, прежде чем приблизиться к добыче, посматривали на нее жадным взглядом, но с опаской, и медленно, поминутно останавливаясь, вперевалку подбирались к ней.
А тем временем прыткие сороки утаскивали добычу у них из-под самого носа. Кроме перечисленных зверьков, в мою коллекцию за это время попало несколько летучих мышей, которых иногда приносили мне знакомые мальчики.
Они же очень помогали мне и с птицами, разыскивая и принося мне гнезда и яйца. Впрочем, постоянно ковыляя по саду в поисках новой добычи для пробирок и шаря для этого по кустам и высокой траве, я и сам находил гнезда соловьев, сорокопута и ястребиной славки.
Всех этих птиц было очень много в садах на окраине города. Попадались также гнезда вороны, иволги и щегленка, но до них уж я добраться не мог, и тут мне должны были помогать мои молодые приятели. Наконец, я вел со своими добровольными помощниками наблюдения над прилетом тех птиц, которые мне были доступны.
Так что кое-какой и притом очень нужный и недостававший мне материал даже по птицам я все-таки собрал и в это время. Но и это была не единственная моя работа тогда. В Верном в то время был небольшой, но очень хороший краеведческий музей.
Создал его (можно сказать, из ничего) одни верненский старожил, В. Е. Недзвецкий, при участии многих добровольных помощников. Сам Недзвецкий был даже не естественник, а юрист по образованию, но он был большим любителем природы и страстный охотником.
Он сумел заинтересовать многих других верненских охотников, и они общими силами начали собирать то, что их самих больше всего интересовало, - птиц и зверей. Эти первые шкурки составили то зерно, из которого впоследствии вырос ценный музей.
В 1917 году в нем было уже несколько отделов: зоологический, ботанический, геологический, этнографический, археологический и довольно приличная библиотека, в которой были даже некоторые очень ценные книги. В первые годы революции Недзвецкий уже не заведывал музеем, так как по старости оставил службу, а вскоре и умер.
Но музей продолжал некоторое время находиться в хороших руках и был поставлен так умело, что приобрел в городе большую популярность и встречал самое лучшее отношение со стороны местных правительственных органов.
И в годы разгара гражданской войны, когда большинство местных музеев на окраинах было разорено, а некоторые даже исчезли без следа, Семиреченский областной музей, как он тогда назывался, не только никак не пострадал, но продолжал даже расти и обогащаться новыми коллекциями.
Этот-то музей и дал мне тогда много интереснейшего дела. Зоологические коллекции его были довольно велики и интересны, но определены и птицы, и звери были далеко не всегда верно. Кроме того, никакого каталога их не было заведено.
Мне и было предложено определить зоологические коллекции и составить их список. Так как ходить в музей я не мог, то коллекции привозились ко мне на квартиру, и я дома занимался их обработкой. Понятно, что работа эта меня не только заинтересовала, но и увлекла, а впоследствии сослужила мне и огромную службу.
Занимаясь ею, я, конечно, заносил на свои карточки все, что представляло для меня интерес, и составил для себя лично полный список коллекций. Так что впоследствии, когда значительная часть их пропала бесследно, для меня она не пропала, и я использовал все данные о ней, когда писал книги о пресмыкающихся, млекопитающих и птицах Семиречья.
Кроме того, взяв на себя определение также млекопитающих, я поневоле должен был с ними познакомиться получше. До того я, правда, успел сам насобирать их уже порядочно и начал кое-как разбираться в них, но еще весьма слабо.
Знал, что у нас есть несколько тушканчиков, но какие, как их отличать - понятия не имел; еще меньше сумел бы разобраться в летучих мышах, да и не в летучих, а в самых обыкновенных сухопутных. Теперь я взялся за зверьков серьезнее и скоро начал в них разбираться, так что мог справляться с определением.
Правда, некоторые мои определения оказались потом неверными, но в этом я был не очень виноват. Во-первых, дело это было для меня совсем новое, а вряд ли найдется человек, который в новом для него деле не сделал бы ни одной ошибки.
Во-вторых, у меня не было необходимых научных книг. Единственная книжка, какая у меня была, эго определитель Кащенко, приспособленный к животному миру Томской губернии. И по нему невозможно было определить некоторых музейских зверьков, тем более, что среди них оказались и такие, которые в науке вообще еще не были известны.
Эта неуверенность при работе меня немножко расхолодила, так что я тогда еще не стал заниматься млекопитающими более серьезно и пришел к этому позже, в Ленинграде, где я имел под рукою и книги, и огромные коллекции музея Академии Наук.
Однако начатую работу я все-таки довел до конца и составил список млекопитающих с такими определениями, до которых мог тогда добраться. Но мысль заняться млекопитающими как следует зародилась у меня уже тогда. И я на моих карточках записал не только многие сотни измерений просмотренных зверьков, но более сомнительных даже нарисовал в красках и по этим карточкам впоследствии без труда определил всех зверьков уже правильно.
Таким образом, для своей будущей книги о млекопитающих Семиречья я смог воспользоваться и коллекцией зверьков музея, как и коллекцией птиц, хотя от нее сохранилось еще меньше, чем от последней. Вместе с тем эта работа ознакомила меня с совершенно новыми для меня приемами определения, не похожими на те, которыми я пользовался до сих пор с птицами: измерения черепа, сравнения устройства зубов и т. д.
Занятия с коллекциями музея помогли мне заполнить зимнее время, когда о насекомых, да и о птицах, приходилось забыть. А к тому времени, когда я справился с коллекциями музея, Областной Комиссариат народного просвещения предложил мне написать книгу о животном мире Семиреченской области.
Я с удовольствием принял это предложение, так как мне казалось, что я для этого уже достаточно хорошо знаю местных животных. Впоследствии я убедился, что насчет млекопитающих я основательно ошибался. К счастью, книгу, которую я написал к назначенному сроку, напечатать не удалось, и, таким образом, судьба избавила меня от порядочного конфуза.
Но моя работа все-таки не пропала: рукопись сохранилась, я ее впоследствии исправил, дополнил и переработал, и она - уже гораздо позже - появилась в свет в виде первой части моей книги «Животный мир Казахстана». Так даже эти годы моей жизни в Семиречье, когда я не только не мог никуда ездить, но и ходить-то мог с трудом, не пропали для меня даром, я все-таки продолжал ту работу, которая была для меня главным в жизни.
«Если вам везет, продолжайте, если вам не везет - все-таки продолжайте». Я тогда еще не знал этого девиза, да он в то время еще и не был высказан, но в жизни я всегда следовал ему.
Сель в Верном в 1921 году.
Так шла моя жизнь в Верном в первые годы революции. А в ноябре 1921 года я, наконец, мог выехать туда, откуда в 1917 году уехал на три летних месяца. Добрался я до Петербурга (тогда он еще не назывался Ленинградом) только в марте 1922 года и с тех пор живу там постоянно.
Но незадолго до того, как я, наконец, покинул Верный, мне пришлось быть здесь свидетелем еще одной страшной катастрофы, постигшей многострадальный город в 1921 году - грязевого наводнения, или «силя», как называют это явление в Средней Азии.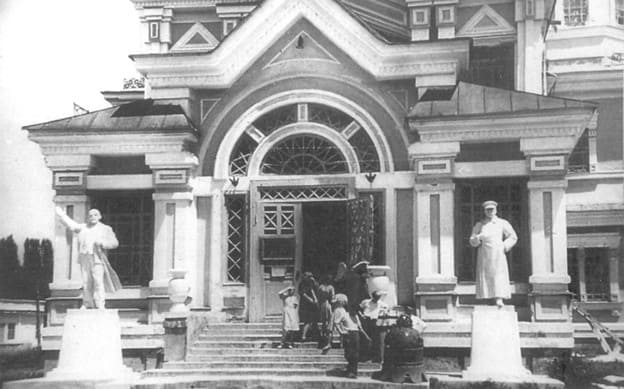
Лето в 1921 году было необычайно дождливым, особенно июль месяц, а 8 июля выпало осадков столько, сколько в среднем выпадает здесь за весь этот месяц. В эту ночь я несколько раз просыпался от какого-то сильного, но непонятного шума, доносившегося издалека.
Я предположил, что это шум Алматинки и что она, пожалуй, может снести расположенные на ней небольшие мельницы. Но наутро я узнал нечто совершенно другое. Никто еще не знал толком в чем дело, но говорили, что в городе стряслось что-то ужасное, какое-то неслыханное несчастье. Немедленно я отправился, по расспросам, туда, где произошла катастрофа, и увидел, что на этот раз слухи не только не преувеличены, как это бывает обычно, а напротив, совершенно не передают настоящего впечатления от происшедшего.
Когда наутро жители города стали приходить к местам наибольшего разрушения, то впечатление было настолько потрясающе, что никто даже не обменивался ни одним словом. Все молча, подолгу стояли на одном месте, совершенно подавленные, стараясь припомнить, что же на месте этого каменного хаоса или на месте этой промоины было раньше.
Постояв некоторое время, люди так же молча двигались дальше вдоль границы разрушенной части города. Перед вечером протекающая через город речка Алматинка вышла из берегов, вода затопила ближайшие улицы, унося со дворов всякую рухлядь, кур, кошек, собак, но особенного вреда не причинила.
Все спокойно легли спать, но далеко не все проснулись на следующее утро. Ночью на город ринулся, вместо воды, высокой вал полужидкой грязи, несший огромные каменные глыбы и разрушавший все на своем пути: дома, деревья, заборы.
Все застигнутое этим валом уничтожалось и сносилось с лица земли. За первым валом подошел следующий, и так, с промежутками, через город прошло несколько таких грандиозных валов. Одни говорят - пять, другие - семь, но я уверен, что нет ни одного человека, который находился вблизи места действия этих валов и мог бы заниматься их подсчетом.
Довольно того, что их было несколько, и каждый из них продолжал страшное дело, сделанное предыдущими. Поток вошел в город в самом начале нынешнего проспекта Ленина, но сразу же направился наискось на Пушкинскую улицу, захватил ее всю в ширину, спустился немного вниз по ней, затем опять пошел наискось на Нарынскую (ул. Красина), с нее на Копальскую (ул. Карла Маркса) и по ней двинулся вниз до Торговой и даже немного ниже.
В то же время между улицами Советской и Гоголевской часть потока пошла через дворы и постройки на Сергиопольскую (ул. Абая) и по ней окончательно двинулась вниз, и здесь, в нескольких кварталах ниже Торговой, грязь расплылась и остановилась.
Лепсинская (ул. Фурманова) была захвачена лишь незначительно, около Гоголевской и Торговой. Самые сильные разрушения поток причинил в верхней части города - на Пушкинской и Нарынской, где были совершенно уничтожены и исчезли с лица земли не только почти все дома и все сады, но и самая местность стала неузнаваемой.
На месте улиц, садов, огородов оказались колоссальные промоины, овраги, - загроможденные огромными каменными глыбами и тысячами более мелких валунов. На месте бывшей Копальской улицы во всю ее ширину образовался на большом протяжении глубокий лог.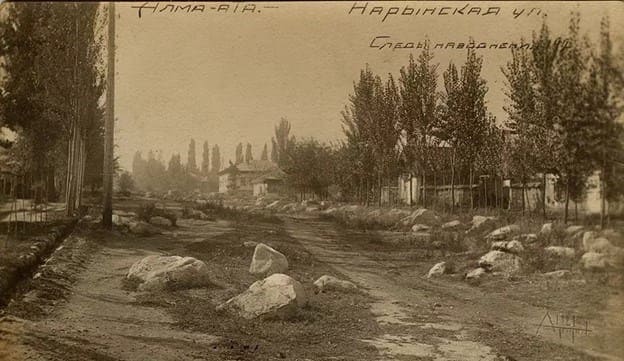
На высоте парка грязь уже начала останавливаться, и вся левая половина парка, Гоголевская и Торговая улицы были покрыты толстым слоем полужидкой грязи, которая так и осталась там навсегда. И нет никакого сомнения в том, что и в парке и на Торговой улице, да и во многих других местах в городе люди теперь ходят по костям погибших от наводнения.
Еще и теперь кое-где можно получить некоторое понятие о толщине залившего город грязевого слоя. Так, на углу Торговой и Карла Маркса с улицы к угловому кооперативу на нижнем левом углу теперь приходится с улицы значительно спускаться вниз на тротуар; до наводнения тротуар возвышался над улицей, и на него тогда надо было подниматься.
Очень жаль, что город не оставил нетронутым хоть одного уголка, где-нибудь в месте наиболее сильных разрушений, например, на улице Красина между Лагерной (ул. Шевчечко) и Госпитальной (ул. Джамбула). Это был бы замечательный памятник стихийной разрушительной деятельности природы.
Грандиозны были также разрушения по Алматинке выше города в районе дач. Здесь снесены и исчезли без следа не только десятки дач, но разрушена и долина реки - она превратилась в хаотическое нагромождение камней. Бедствие это было особенно страшно благодаря тому, что случилось оно в безлунную ночь при проливном дожде, так что гибнувшие с домами люди, несомненно, часто даже не понимали, что происходит.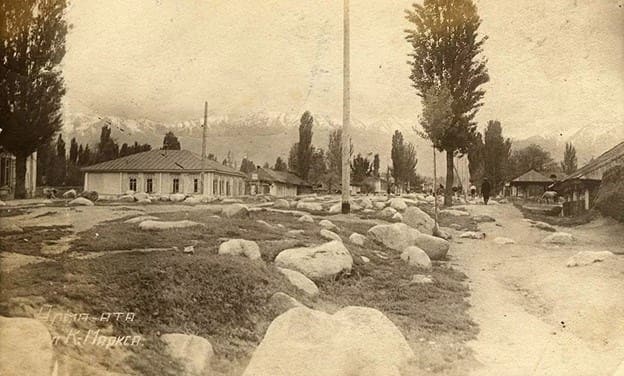
Один из домов стоял в самой верхней части Пушкинской улицы; ночью жильцы проснулись от страшного грохота и сотрясения почвы. Дом дрожал, шатался, даже поворачивался на месте, как изба Бабы-Яги, и хозяева были в полной уверенности, что город опять подвергается сильнейшему землетрясению.
Однако они все же остались в доме и дождались в нем утра. Каковы же были их потрясение и ужас, когда на рассвете они увидели, что их дом стоит наклонно и совсем не в том направлении, в каком стоял раньше, вокруг же вместо улицы с домами и садами - голый, заваленный валунами и покрытый грязью, изуродованный пустырь, среди которого одиноко возвышается их жилище, каким-то чудом уцелевшее в этом диком хаосе разрушения. Есть от чего сойти с ума.
Интересный случай произошел с другим домом: он был сорван потоком с места, но не разрушен им, а подхвачен целиком и унесен. Дом этот видели многие жители Копальской улицы в то время, когда он плыл по ней вниз с освещенными окнами, через которые видны были его обитатели, надо думать, достаточно перепуганные.
Этот дом проплыл по Копальской (ул. К. Маркса) до парка, затем свернул на Сергиопольскую и наконец остановился на ней на пустом месте с правой стороны двумя-тремя кварталами ниже бывitq Торговой. Там я этот дом видел уже сам.
Таких домов, уплывших и остановившихся где попало, в городе было даже несколько. Грохот при прохождении грязевых валов был настолько силен, что будил меня, хотя я жил в 6 кварталах от ближайшего места наводнения. А живущие на быв. Копальской улице, т. е. на самом берегу грязевого потока, рассказывали мне, что разговаривать было невозможно, даже и вплотную приближая ухо к говорившему, вернее - кричащему изо всех сил собеседнику.
Число погибших тогда определяли в 650 человек, но найдено трупов было только около 150. Остальные исчезли бесследно и, вероятно, многие из них лежат теперь в районе отложения грязекаменных масс, т. е., как я уже говорил, главным образом, в парке и на Торговой.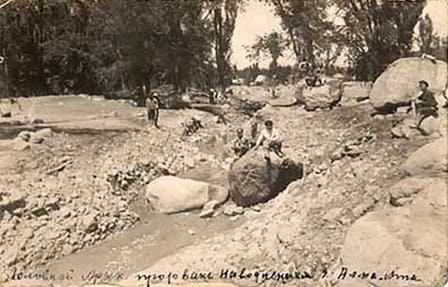
Во время этого наводнения было много трагических случаев. Одна большая семья была в этот день частью дома в городе, частью на даче. Наводнением у них были захвачены и дом, и дача. В разных местах, но за одну эту ночь погибла вся семья, состоявшая из 10 человек.
Две других близких семьи как раз в день катастрофы выехали к родственникам на дачу. Там было два дома, из которых в одном поместились взрослые, а в другом четверо детей одной семьи и мать с ребенком - другой. Наводнение захватило только тот дом, где ночевали дети, и родителям суждено было слышать призывы о помощи детей, видеть, как все четверо гибнут на их глазах и… не иметь возможности хоть что-нибудь сделать для их спасения.
Муж молодой женщины, находившейся в гибнувшем доме, оказался таким же беспомощным свидетелем гибели жены и единственного ребенка. Известна мне трагическая судьба еще одного верненского жителя. Захваченный наводнением на даче, он пытался бороться с потоком, держа за руки мать своей жены и единственного сына, мальчика лет 13 - 14.
Но борьба была непосильной: потоком у него оторвало сперва одного, потом другого и, наконец, подхватило и унесло его самого. Он был найден в бессознательном состоянии в 9 километрах ниже места, где его сбило с ног, и возвращен к жизни; остальные двое погибли.
Верненские старожилы хорошо знают имена всех упомянутых лиц, но я не нахожу возможным называть их здесь, так как некоторые из них живы, и им не может быть приятно упоминание их имен в связи с такими тяжелыми событиями в их жизни.
XIV. Ленинград.
После возвращения из Верного, в ленинградский период моей жизни, я начал, наконец, обработку семиреченских птиц. Но затем на время изменил им для млекопитающих и занялся обработкой материала по ним, притом не только своего, но вообще всего, который имеется из Семиречья.
Закончив обработку млекопитающих, я опять принялся за птиц, но их в Семиречье оказалось так много и материал по ним был настолько велик, что они попали в последнюю очередь, и написанная мною большая книга «Птицы Семиречья» света еще не увидела.
Но и «Пресмыкающиеся Семиречья», и «Млекопитающие», и «Птицы» - книги научные, написанные главным образом для специалистов или вообще для людей более или менее подготовленных. Животный же мир Казахстана настолько богат и разнообразен, что о нем много интересного можно было бы рассказать и для неспециалистов, т. е. для всех тех, кто просто интересуется природой, не думая заниматься ею научно.
И мне пришла мысль написать о тех же млекопитающих, птицах и пресмыкающихся именно такую общедоступную книгу. Мысль эту я привел в исполнение, и таким образом появились две мои книги: «Животный мир Казахстана» и книжка для ребят - «Звери Казахстана».
В первые годы ленинградской жизни я летом не бывал в Казахстане, а проводил его где-нибудь в окрестностях Ленинграда, но и здесь я все время был занят тем же делом - изучением местной природы. Однако не так, как всегда до тех пор, а совсем особенным образом.
В то время было в обычае вывозить учащихся школ на лето куда-нибудь в деревню, и мне предложили заняться с ребятами зоологией на лоне природы. Я никогда не занимался педагогической деятельностью и согласился на это лишь с тем условием, что я ничего не буду «преподавать», а просто на практике ознакомлю ребят с местным животным миром непосредственно в природной обстановке.
Когда я показал ребятам разные способы собирания насекомых, когда мы начали ставить капканчики и добывать с их помощью различных зверьков, когда ребята занялись изучением очень богатого мира всякой водяной твари, они так заинтересовались, что очень многие стали самыми ревностными моими помощниками.
Общими силами мы быстро создали свой настоящий небольшой зоологический музей, насобирали материал для зоологического кабинета школы и, наконец, собрали очень большой, интересный и ценный в научном отношении материал по насекомым даже для Зоологического музея Академии Наук.
Когда ребята увидали, что их сборами заинтересовались настоящие ученые, они были в восторге и еще с большим увлечением продолжали начатое дело. Потом мне пришлось так же работать с другой летней школой. Дети и там отнеслись к зоологии с таким же интересом и собрали еще более богатый и ценный материал, на этот раз по млекопитающим.
Материал этот оказался настолько интересным, что я по нему сделал два научных доклада в Академии Наук и написал статью в научный журнал. Когда я увидел, что ребята вполне могут собственными силами, лишь при небольшом руководстве, делать ценную в научном отношении работу, меня самого это так заинтересовало, что я решил попробовать привлечь к такому участию в общей научной работе в государстве и тех ребят, с которыми мне самому встретиться не придется.
Для этого я написал для таких ребят специальную книжку: «Как дети могут помочь ученым». Между тем, летели дни… Медленно, но так же неизменно и неумолимо шли годы. Мне пошел шестой десяток, потом седьмой. Наконец, седьмой перевалил и на вторую половину.
Становилось уже не так легко, как прежде, мириться с неудобствами экспедиционной жизни. Попробуйте-ка просидеть в июле месяце трое суток в ожидании автомобиля на какой-нибудь гиблой станции Мулалы! Вечно битком забитая ожидающими поездов пассажирами, она представляет в это время настоящее место пытки.
Кругом ни дерева, ни кустика; солнце при мертвом штиле палит, как в тропиках, а подует ветер - и того хуже: как из печки. Прибавьте еще сюда: ночью блох, клопов, москитов и комаров, а днем - бесчисленных мух, и вы, может быть, почувствуете, как весело и приятно было мне, когда я попал на эти Мулалы.
Или же не угодно ли в разгар лета пожить в палатке где-нибудь в песках или солонцах!.. О тени и помина нет. Искусственно затененный термометр показывает 43°, а поверхность почвы нагрета до 60 - 70°. И это только так говорится: «жить в палатке».
Палатка может служить жильем только ночью, да рано утром и вечером, когда и без нее хорошо. Днем же, когда только и нужно как-нибудь спасаться от зноя, в палатку и носа показать нельзя. В это время она не только не защитит вас от жары, но в ней царит такое адское пекло, что там погибают все не успевшие вовремя убраться мухи и комары.
А комары и слепни в низовьях Или, на Балхаше или Ала-Куле. Все это, да и многое другое - такие удовольствия, от которых с радостью отказался бы каждый и помоложе меня. Для меня же даже в горах, где нет ни жары, ни комаров и, казалось бы, можно жить в свое удовольствие, - другая беда.
На длинном спуске, когда мускулы ног находятся в непрерывном напряжении, и на очень кругом подъеме, где лошадь идет резкими рывками, каждый ее шаг отдается острой болью в моей сломанной ноге. Попав во время той или иной из своих экспедиций последних лет в особенно тяжелую переделку, я не раз вспоминал о своей уютной ленинградской комнатке, увешанной по стенам картами и фотографиями природы Казахстана и Киргизии, комнатке, где у меня под рукою и книги, и мои коллекции.
Вспоминал о спокойной работе ночью, когда все кругом спит, царит полная тишина, и никто не мешает тебе заниматься за старым, заслуженным письменным столом, в мягком удобном кресле вместо какого-нибудь вьючного ящика с железной ручкой и толстыми ремнями с пряжками на крышке.
О кресле своем начинаешь мечтать даже с какой-то особенной нежностью, после того как за целое лето ни разу, ни на минуту не удастся сесть удобно, прислонившись к спинке - за отсутствием таковой у ящиков, вьючных сум, мешков с продуктами и тому подобной летней «мебели» путешественника.
И не раз я решал:
- «Нет, довольно, хорошенького понемножку, это - последняя моя поездка!»
Но едва лишь весна вступала в свои права, как я забывал о своем прошлогоднем решении и о всех невзгодах и лишениях походной жизни. се трудности и испытания, которые мне пришлось пережить, представлялись где-то далеко, в тумане, и вовсе не такими уж страшными.
И я начиная мечтать уже не о мягком кресле, а о новой поездке. Казалось, что прошлогодние невзгоды были случайностью, которая не должна повториться, и что на этот раз все будет прекрасно. И я ехал опять и опять. А в 1939 году проделал даже поездку, не уступающую многим из экспедиций времен моей молодости.
Тут были и 350 километров вдвоем на лодке, и столько же километров в кабинке грузового автомобиля, 250 километров верхом с верблюжьим караваном и даже 150 километров на самолете. Птиц за последние годы я уже почти совсем оставил: занимаюсь млекопитающими, а для различных наших специалистов собираю насекомых и разных других беспозвоночных.
Но это уже не прошедшее, а настоящее время. А в настоящем времени воспоминания не пишутся…
Сентябрь 1940 год.
Источник:
«Из воспоминаний натуралиста». В. Н. Шнитников. Алма-Ата. КазОГИЗ, 1943 год.
https://rus-turk.livejournal.com/541590.html







